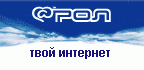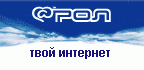Глава 3: 26 апреля 1986 года
Вернувшись вечером 25 апреля из командировки на Крымскую АЭС, я просмотрел
все свои записи и протоколы совещаний, подробнее остановившись на конспекте
заседания бюро Крымского обкома КПСС 23 апреля 1986 года, в работе которого
принимал участие.
Перед заседанием Бюро обкома я имел беседы с заведующим промышленным отделом
обкома В. В. Кура-шиком и секретарем обкома по промышленности В. И. Пигаревым.
Меня удивило тогда, что оба товарища задали мне почти один и тот же вопрос; не
опрометчиво ли строительство атомной станции в Крыму, в курортной здравнице
страны? Неужели нет других мест в Советском Союзе?
— Есть,— ответил я.— Есть много бросовых и малозаселенных или вообще
незаселенных земель-неудобий, где можно было бы строить атомные
электростанции...
— Так почему же?.. Кто решает так?..
— Министр энергетики, Госплан СССР... А проектирует распределение мощностей
по территории страны «Энергосетьпроект», сообразуясь с потребностями в энергии в
том или ином районе...
— Но ведь мы тянем на тысячи километров линии электропередач из Сибири в
Европейскую часть страны, неужели...
— Да, вы правы.
— Значит, в Крыму можно не строить?
— Можно.
— И нужно...— сказал Пигарев, печально улыбнувшись.—Но будем строить...—уже
деловито поправился секретарь обкома.
— Да, будем.
— Об этом и будет сегодня принципиальный разговор на Бюро. Строители и
дирекция работают вяло, срывают плановые показатели. Такое положение терпеть
дальше нельзя...— Пигарев как-то просительно посмотрел на меня:— Обрисуйте мне,
пожалуйста, как в действительности обстоят дела на стройке, чтобы я мог
поубедительней выступить на Бюро обкома.
Я проанализировал ситуацию. Секретарь убедительно выступил.
В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года все будущие ответственные за ядерную
катастрофу в Чернобыле спокойно спали. И министры Майорец и Славский, и
президент Академии наук СССР А. П. Александров, и председатель
Госатомэнергонадзора Е. В. Кулов, и даже директор Чернобыльской АЭС В. П.
Брюханов, и главный инженер станции Н. М. Фомин. Спала Москва и вся ночная
половина земного шара. А тем временем в помещении блочного щита управления
четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции происходили поистине
исторические события.
Напомню, что смена Александра Акимова заступила на вахту в 24 часа 00 минут,
то есть за 1 час 25 минут до взрыва. Многие из заступивших на смену не
доработают до утра. Двое погибнут сразу...
Итак, в 1 час 00 минут 26 апреля 1986 года мощность атомного реактора 4-го
энергоблока из-за грубого нажима заместителя главного инженера А. С. Дятлова
была стабилизирована на уровне 200 МВт тепловых. Продолжалось отравление
реактора продуктами распада, дальнейший подъем мощности был невозможен,
оперативный запас реактивности был значительно ниже регламентного и, как я уже
говорил ранее, по словам СИУРа Леонида Топтунова составлял 18 стержней. Этот
расчет дала ЭВМ «Скала» за семь минут до нажатия кнопки «АЗ» (аварийной защиты).
Следует отметить, что реактор находился в неуправляемом состоянии и был
взрывоопасен. Это означало, что нажатие кнопки «АЗ» в любое из оставшихся
мгновений до известной уже нам исторической точки момента взрыва привело бы к
неуправляемому фатальному разгону. Воздействовать на реактивность было нечем.
До взрыва оставалось еще 17 минут 40 секунд. Это очень большое время. Почти
вечность. Историческая вечность. Ведь мысль летит со скоростью света. Сколько
можно передумать за эти 17 минут 40 секунд, всю жизнь вспомнить, всю историю
человечества. Но, к сожалению, это было всего лишь время движения к взрыву...
В 1 час 03 минуты и в 1 час 07 минут дополнительно к шести работавшим главным
циркуляционным насосам (ГЦН) было включено еще по одному насосу с каждой
стороны. При этом имелось в виду, что после окончания эксперимента в контуре
циркуляции осталось бы четыре насоса для надежного охлаждения активной зоны.
Тут надо разъяснить читателю, что гидравлическое сопротивление активной зоны
и контура принудительной циркуляции имеет прямую зависимость от мощности
реактора. А поскольку мощность реактора была мала (всего 200 МВт тепловых),
гидравлическое сопротивление активной зоны тоже было низкое. В работе же
находились все восемь главных циркуляционных насосов, суммарный расход воды
через реактор возрос до 60 тысяч кубических метров в час, при норме 45 тысяч
метров кубических в час, что является грубым нарушением регламента эксплуатации.
При таком режиме работы насосы могут сорвать подачу, возможно возникновение
вибрации трубопроводов контура вследствие кавитации (вскипание воды с сильными
гидроударами).
Резкое увеличение расхода воды через реактор привело к уменьшению
парообразования, падению давления пара в барабанах-сепараторах, куда поступает
пароводяная смесь из реактора, к нежелательному изменению других параметров.
Старший инженер управления реактором Леонид Топтунов, начальник смены блока
Александр Акимов и старший инженер управления блоком Борис Столярчук пытались
вручную поддерживать параметры реактора: давление пара и уровень воды в
барабанах-сепараторах, однако в полной мере сделать это не смогли. В это время в
барабанах-сепараторах наблюдались провалы по давлению пара на 5—6 атмосфер и
провалы по уровню воды ниже аварийной уставки. А. Акимов с согласия А. С.
Дятлова приказал заблокировать сигналы аварийной защиты по этим параметрам.
Спрашивается, можно ли было в этой ситуации избежать катастрофы? Можно. Надо
было только категорически отказаться от проведения эксперимента, подключить к
реактору систему аварийного охлаждения реактора (САОР), задействовать аварийные
дизель-генераторы, зарезервировав таким образом электропитание на случай полного
обесточивания. Вручную ступенями приступить к снижению мощности реактора, вплоть
до его полной остановки, ни в коем случае не сбрасывая аварийную защиту, ибо это
было равносильно взрыву...
Но этот шанс не был использован. Реактивность реактора продолжала медленно
падать...
В 1 час 22 минуты 30 секунд (за полторы минуты до взрыва) СИУР Леонид
Топтунов по распечатке программы быстрой оценки запаса реактивности увидел, что
он составлял величину, требующую немедленной остановки реактора. То есть те
самые 18 стержней вместо необходимых двадцати восьми. Некоторое время он
колебался. Ведь бывали случаи, когда вычислительная машина ошибалась. Тем не
менее Топтунов доложил обстановку Акимову и Дятлову.
Еще не поздно было прекратить эксперимент и осторожно вручную снизить
мощность реактора, пока цела активная зона. Но этот шанс был упущен, и испытания
начались. При этом нужно подчеркнуть, что все операторы, кроме Топтунова и
Акимова, которых все же смутили данные вычислительной машины, были спокойны и
уверены в своих действиях. Спокоен был и Дятлов. Он прохаживался вдоль помещения
блочного щита управления и поторапливал ребят:
— Еще две-три минуты, и все будет кончено. Веселей, парни!
В 1 час 23 минуты 04 секунды старший инженер управления турбиной Игорь
Кершенбаум по команде Г. П. Метленко: «Осциллограф включен!» закрыл
стопорно-дроссельные клапаны восьмой турбины, и начался выбег ротора генератора.
Одновременно была нажата и кнопка «МПА» (максимальной проектной аварии). Таким
образом, оба турбоагрегата — седьмой и восьмой — были отключены. Имеющаяся
аварийная защита реактора по отключению двух турбин была заблокирована, чтобы
иметь возможность повторить испытания, если первая попытка окажется неудачной.
Тем самым было сделано еще одно отступление от программы испытаний, в которой не
предусматривалась блокировка аварийной защиты реактора по отключению двух
турбоагрегатов. Но весь парадокс заключался в том, что если бы действия
операторов были в данном случае правильными, а блокировка не выведена, то по
отключению второй турбины сработала бы аварийная защита, и взрыв настиг бы нас
на полторы минуты раньше...
В этот же момент, то есть в 1 час 23 минуты 04 секунды, началось запаривание
главных циркнасосов и произошло уменьшение расхода воды через активную зону. В
технологических каналах реактора вскипел теплоноситель. Процесс при этом
развивался вначале медленно, и через некоторое время после начала испытаний
стала медленно повышаться мощность. Кто знает, может быть, рост мощности и в
дальнейшем оказался бы плавным, кто знает...
Старший инженер управления реактором Леонид Топтунов первым заметил рост
мощности и забил тревогу.
— Надо бросать аварийную защиту, Александр Федорович, разгоняемся,— сказал он
Акимову.
Акимов быстро посмотрел распечатку вычислительной машины. Процесс развивался
медленно. Да, медленно... Акимов колебался. Был, правда, и другой сигнал:
восемнадцать стержней вместо двадцати восьми, но... Началь-ник смены блока
испытывал сложные чувства. Ведь он не хотел подниматься после падения мощности
до 30 МВт. Не хотел... До ощущения тошноты, до слабости в ногах не хотел. Не
сумел, правда, противостоять Дятлову. Характера не хватило. Скрепя сердце,
подчинился. А когда подчинился, пришла уверенность. Поднял мощность реактора из
нерегламентного состояния и все это время ждал достаточно серьезной новой
причины для нажатия кнопки аварийной защиты. Теперь, похоже, такое время
настало.
Можно также предположить, что блокировка на срабатывание аварийной защиты
была заведена на кнопку «МПА», при нажатии которой стержни «АЗ» вниз почему-то
не пошли.
Это могло послужить причиной того, что Акимов в 1 час 23 минуты 40 секунд
нажал кнопку «АЗ», пытаясь продублировать аварийный сигнал...
Но это только предположение. Документальных подтверждений или свидетельств
очевидцев на этот счет пока нет...
— Бросаю аварийную защиту! — крикнул Акимов и протянул руку к красной кнопке.
В 1 час 23 минуты 40 секунд начальник смены блока Александр Акимов нажал
кнопку аварийной защиты пятого рода, по сигналу которой в активную зону вошли
все регулирующие стержни, находившиеся вверху, а также стержни собственно
аварийной защиты. Но прежде всего в зону вошли те роковые концевые участки
стержней, которые дают приращение реактивности половину беты из-за обезвоживания
каналов СУЗ. И они вошли в реактор как раз в тот момент, когда там началось
обширное парообразование, также дающее мощное приращение реактивности. Тот же
эффект дал рост температуры активной зоны. Сошлись воедино три неблагоприятных
для активной зоны фактора.
Последовательность развития аварии могла быть несколько иной. При
относительно спокойных параметрах и падающем расходе теплоносителя (снижались
обороты выбегающего ротора) введение в активную зону стержней СУЗ (положительная
реактивность более 0,5 р) явилось провоцирующим фактором. Вскипел теплоноситель,
добавив свою составляющую (до 4 (3), плюс температурный эффект. Далее — лавинный
разгон, взрыв...
В любом случае эти проклятые 0,5 в и были той последней каплей, которая
переполнила «чашу терпения» реактора.
Вот тут-то Акимову и Топтунову надо было бы повременить, не нажимать кнопку,
тут-то, ой, как пригодилась бы система аварийного охлаждения реактора (САОР),
которая была отключена, закрыта на цепь и опломбирована, тут бы надо было им
срочно заняться главными циркуляционными насосами, подать во всасывающую линию
холодную воду, сбить кавитацию, прекратить запаривание и тем самым подать воду в
реактор и уменьшить парообразование, а стало быть, высвобождение избыточной
реактивности. Тут бы им обеспечить включение дизель-генераторов и рабочего
трансформатора, чтобы подать электропитание на электродвигатели ответственных
потребителей, но увы!.. Такая команда перед нажатием кнопки аварийной защиты
дана не была.
Была нажата кнопка, и начался разгон реактора на мгновенных нейтронах...
Стержни пошли вниз, однако почти сразу же остановились. Вслед за тем со
стороны центрального зала донеслись удары. Леонид Топтунов растерянно
переминался на месте. Начальник смены блока Александр Акимов, увидев, что
стержни-поглотители прошли всего лишь 2—2,5 метра вместо положенных семи,
рванулся к пульту оператора и обесточил муфты сервоприводов, чтобы стержни упали
в активную зону под действием собственной тяжести. Но этого не произошло.
Видимо, каналы реактора деформировались, и стержни заклинило...
Потом реактор будет разрушен. Значительную часть топлива, реакторного графита
и других внутриреакторных конструкций взрывом выбросит наружу. Но на
сельсинах-указателях положения стержней-поглотителей блочного щита управления
четвертого энергоблока, как на знаменитых часах в Хиросиме, стрелки навечно
застынут в промежуточном положении, показывая глубину погружения 2—2,5 метра
вместо положенных семи, и в таком положении будут захоронены в укрытие...
Время 1 час 23 минуты 40 секунд...
В момент нажатия кнопки «АЗ-5» (аварийная защита пятого рода) пугающе
вспыхнула яркая подсветка шкал сельсинов-указателей. Даже у самых опытных и
хладнокровных операторов в такие секунды сжимается сердце. В недрах активной
зоны началось уже разрушение реактора, но это еще не взрыв. До времени «икс»
оставалось двадцать секунд...
Напомню, что на блочном щите управления 4-м энергоблоком в это время
находились: начальник смены блока Александр Акимов, старший инженер управления
реактором Леонид Топтунов, заместитель главного инженера по эксплуатации
Анатолий Дятлов, старший инженер управления блоком Борис Столярчук, старший
инженер управления турбиной Игорь Кершенбаум, заместитель начальника турбинного
цеха блока № 4 Разим Давлетбаев, начальник лаборатории Чернобыльского
пусконаладочного предприятия Петр Паламарчук, начальник смены блока Юрий Трегуб,
сдавший смену Акимову, старший инженер управления турбиной из предыдущей смены
Сергей Газин, стажеры СИУРа из других смен Виктор Проскуряков и Александр
Кудрявцев, а также представитель «Донтехэнерго» Геннадий Петрович Метленко и два
его помощника, находившихся в соседних неоперативных помещениях БЩУ, поблизости.
В задачу Метленко и его группы входило снятие электрических характеристик
генератора во время выбега ротора. Сам Метленко, находясь в помещении блочного
щита управления, должен был следить за темпом падения оборотов ротора генератора
по тахометру. Странная судьба выпала на долю этого человека, фактически
оставшегося в тени. Ничего не понимая в атомном реакторе, Метленко стал
фактическим руководителем электроэксперимента, приведшего к тяжелейшей ядерной
катастрофе. Он даже не знал лично людей, с которыми вышел на работу в ту роковую
ночь. Позднее Г. П. Метленко рассказывал:
«Я не знал операторов. Я впервые увидел их, нас свел в ту ночь эксперимент. Я
сутки ждал опыта. Он мог быть и в предыдущую смену. Мне надо было снять
показания... Во время взрывов ничего не понимал. У операторов запомнилось —
недоумение. Почему так произошло?..»
Что испытывали Акимов и Топтунов — операторы атомного технологического
процесса — в момент, когда на полпути застряли поглощающие стержни и раздались
первые грозные удары со стороны центрального зала? Трудно сказать, потому что
оба оператора погибли мучительной смертью от радиации, не оставив на этот счёт
никаких свидетельств.
Но представить, что испытывали они, можно. Мне знакомо чувство, переживаемое
операторами в первый момент аварии. Неоднократно бывал в подобной ситуации,
когда работал на эксплуатации атомных электростанций.
В первый миг: онемение, в груди все обрушивается лавиной, обдает холодной
волной невольного страха, прежде всего оттого, что застигнут врасплох и вначале
не знаешь, что делать, пока стрелки самописцев и показывающих приборов
разбегаются в разные стороны, а твои глаза враздрай вслед за ними, когда неясна
еще причина и закономерность аварийного режима, когда одновременно (опять же
невольно) думается где-то в глубине, третьим планом, об ответственности и
последствиях случившегося. Но уже в следующее мгновение наступает необычайная
ясность головы и хладнокровие. Следствие — быстрые и точные действия по
локализации аварии...
Топтунов, Дятлов, Акимов, Столярчук — в замешательстве. Кершенбаум, Метленко,
Давлетбаев ничего не понимают в ядерной физике, но тревога операторов передалась
им тоже.
Поглощающие стержни остановились на полпути, не идут вниз даже после того,
как начальник смены блока Акимов обесточил муфты сервоприводов. Со стороны
центрального зала слышны резкие удары, пол дрожит. Но это еще не взрыв...
Время 1 час 23 минуты 40 секунд... Покинем на эти, оставшиеся до взрыва,
двадцать секунд блочный щит управления четвертого энергоблока Чернобыльской
АЭС...
В этот самый момент в центральный зал четвертого энергоблока, на отметку плюс
пятьдесят (балкон в районе узла развески свежего топлива), вошел с обходом
начальник смены реакторного цеха акимовской вахты Валерий Иванович Перевозченко.
Он посмотрел на перегрузочную машину, застывшую у противоположной стены, на
дверь в стене, за которой в небольшом помещении находились операторы
центрального зала Кургуз и Генрих, на пол центрального зала, осмотрел бассейны
выдержки топлива, битком набитые выгруженным отработавшим топливом, на «пятачок»
реактора...
«Пятачок» — так называется круг пятнадцатиметрового диаметра, состоящий из
двух тысяч кубиков. Эти кубики в совокупности представляют собой верхнюю
биологическую защиту реактора. Каждый из таких кубиков весом 350 килограммов
насаживается в виде шапки на головку технологического канала, в котором
находится топливная кассета. Вокруг пятачка нержавеющий пол, образованный
коробами биозащиты, перекрывающей собою помещения пароводяных трубопроводов,
идущих от реактора к барабанам-сепараторам.
И вдруг Перевозченко вздрогнул. Начались сильные и частые гидроудары, и
350-килограммовые кубики (у них еще есть проектное название «сборка
одиннадцать») начали подпрыгивать и опускаться на головки каналов, будто тысяча
семьсот человек стали подбрасывать вверх свои шапки. Вся поверхность пятачка
ожила, заходила ходуном в дикой пляске. Вздрагивали и прогибались короба
биозащиты вокруг реактора. Это означало, что хлопки гремучей смеси уже
происходили под ними...
Обдирая руки и больно ударяясь об углы поручней, Перевозченко бросился по
крутой, почти вертикальной винтовой лестнице вниз, на отметку плюс десять, в
переходный коридор, соединяющий помещения главных циркуляционных насосов.
Фактически он провалился, чуть притормаживая себя на лету, в яму глубиной сорок
метров.
С гулко бьющимся сердцем, с паническим чувством в душе, сознавая, что
происходит что-то ужасное, непоправимое, на слабеющих от невольного страха ногах
он побежал влево, к выходу на деаэраторную этажерку, где за спасительным
поворотом, в двадцати метрах от двери, начинался стометровый коридор, посредине
которого был вход в помещение блочного щита управления четвертого энергоблока.
Он спешил туда, чтобы доложить Акимову о происходящем в центральном зале...
В то мгновение, когда Перевозченко выскочил в соединительный коридор, в
дальнем конце помещения главных циркуляционных насосов находился машинист
Валерий Ходемчук. Он следил за поведением насосов в режиме выбега ротора
генератора. Насосы сильно трясло, и Ходемчук собирался сообщить об этом Акимову,
но тут грохнул взрыв...
На отметке плюс двадцать четыре, в 604-м киповском помещении, расположенном
под питательным узлом реактора, дежурил с приборами наладчик с Чернобыльского
пусконаладочного предприятия Владимир Шашенок. Он снимал показания приборов в
режиме выбега и поддерживал телефонную связь с блочным щитом управления и
вычислительным комплексом «Скала»...
Что же происходило в реакторе? Чтобы это понять. надо вернуться немного назад
и проследить цепочку действий операторов.
В 1 час 23 минуты параметры реактора были наиболее близки к стабильным. За
минуту до этого старший инженер управления блоком Борис Столярчук резко снизил
расход питательной воды на барабаны-сепараторы, что, естественно, повлекло
увеличение температуры воды на входе в реактор.
После того как был закрыт стопорно-регулирующий клапан и отключен
турбогенератор № 8, начался выбег ротора. Из-за уменьшения расхода пара из
барабанов-сепараторов его давление стало слабо расти, со скоростью 0,5
ат/секунду. Суммарный расход через реактор начал падать из-за того, что все
восемь главных циркуляционных насосов работали от выбегающего турбогенератора.
Их тряску и наблюдал Валерий Ходемчук (не хватало энергии, мощность насосов
падала пропорционально снижению оборотов генератора, соответственно падала и
подача воды в реактор).
Повышение давления пара, с одной стороны, и снижение расхода воды через
реактор, а также подачи питательной воды в барабаны-сепараторы — с другой,
явились конкурирующими факторами, определившими паросодержание в активной зоне,
а следовательно, мощность реактора.
Как я уже указывал ранее, паровой эффект реактивности (от 2 до 4 бета) —
наиболее весомый в уран-графитовых реакторах. Эффективность аварийной защиты
оказалась существенно сниженной. Суммарная же положительная реактивность в
активной зоне в результате резкого снижения расхода охлаждающей воды через
реактор начала расти. То есть рост температуры привел, с одной стороны, к росту
парообразования, а с другой — к стремительному росту температурного и парового
эффектов. Это и послужило толчком к нажатию кнопки аварийной защиты. Но, как я
уже говорил выше, с нажатием кнопки «АЗ» была введена дополнительная
реактивность 0,5 бета. Через три секунды после нажатия кнопки «АЗ» мощность
реактора превысила 530 МВт, а период разгона стал намного меньше 20 секунд...
С ростом мощности реактора гидравлическое сопротивление активной зоны резко
возросло, расход воды еще более снизился, возникло интенсивное парообразование,
кризис теплоотдачи, разрушение топливных ядерных кассет, бурное вскипание
теплоносителя, в который попали уже частицы разрушенного топлива, резко
повысилось давление в технологических каналах, и они стали разрушаться.
В период резкого роста давления в реакторе захлопнулись обратные клапаны
главных циркуляционных насосов и полностью прекратилась подача воды через
активную зону. Парообразование усилилось. Давление росло со скоростью 15
атмосфер в секунду.
Момент массового разрушения технологических каналов и наблюдал начальник
смены реакторного цеха Перевозченко в 1 час 23 минуты 40 секунд...
Затем, в последние 20 секунд до взрыва, когда Перевозченко стремглав летел с
пятидесятиметровой высоты вниз на отметку плюс десять, в активной зоне
происходила бурная пароциркониевая и другие химические и экзотермические реакции
с образованием водорода и кислорода, то есть гремучей смеси.
В это время произошел мощный паровой выброс — сработали главные
предохранительные клапаны реактора. Однако выброс длился недолго, клапаны не
способны были справиться с таким давлением и расходом и разрушились.
В это же время огромным давлением оторвало нижние водяные и верхние
пароводяные коммуникации (трубопроводы). Реактор сверху получил свободное
сообщение с центральным залом и помещениями барабанов-сепараторов, а снизу — с
прочно-плотным боксом, который проектировщиками предусматривался для локализации
предельной ядерной аварии. Но той аварии, какая случилась, никто не предполагал,
и потому в данном случае прочно-плотный бокс послужил просто огромной емкостью,
в которой стал скапливаться гремучий газ.
В 1 час 23 минуты 58 секунд концентрация водорода в гремучей смеси в разных
помещениях блока достигла взрывоопасной и, по свидетельству одних очевидцев,
раздалось последовательно два, а по свидетельству других — три и более взрыва.
По сути дела реактор и здание четвертого энергоблока были разрушены серией
мощных взрывов гремучей смеси.
Взрывы раздались как раз в тот момент, когда машинист Валерий Ходемчук
находился в дальнем конце помещения главных циркуляционных насосов, а начальник
смены реакторного цеха Перевозченко бежал по коридору деаэраторной этажерки в
сторону блочного щита управления...
Над четвертым энергоблоком взлетели горящие куски, искры, пламя. Это были
раскаленные куски ядерного топлива и графита, которые частично упали на крышу
машинного зала и вызвали ее загорание, поскольку кровля имела битумное покрытие.
Чтобы понять, сколько было выброшено взрывом радиоактивных веществ в
атмосферу и на территорию станции, надо представить характеристику нейтронного
поля за минуту двадцать восемь секунд до взрыва.
В 1 час 22 минуты 30 секунд на вычислительной системе «Скала» была получена
распечатка фактических полей энерговыделений и положений всех поглощающих
стержней регулирования. (Тут надо заметить, что вычислительная машина считает в
течение 7—10 минут, стало быть, она представила состояние аппарата примерно за
десять минут до взрыва.) Общая картина нейтронного поля на момент расчета
представляла собой: в радиально-азимутальном направлении, то есть по диаметру
активной зоны,— выпуклое поле, а по высоте в среднем двугорбое с более высоким
энерговыделением в верхней части активной зоны.
Таким образом, если верить машине, в верхней трети активной зоны образовался
как бы приплюснутый шар области высокого энерговыделения диаметром около семи
метров и высотой до трех метров. Именно в этой части активной зоны (весом около
пятидесяти тонн) и происходил прежде всего разгон на мгновенных нейтронах,
именно здесь в первую очередь возник кризис теплоотдачи, произошло разрушение,
расплавление, а затем и испарение ядерного топлива. Именно эту часть активной
зоны выбросило взрывом гремучей смеси в атмосферу на большую высоту и унесло
ветром в северо-западном направлении, через Белоруссию и республики Прибалтики
за пределы границ СССР.
То, что радиоактивное облако передвигалось на высоте от одного до одиннадцати
километров, косвенно подтверждается свидетельством техника аэродромного
обслуживания аэропорта «Шереметьево» С. Антонова, который рассказал, что
прибывающие самолеты (известно, что современные реактивные лайнеры летают на
высоте до 13 километров) подвергали дезактивации в течение недели после взрыва в
Чернобыле...
Таким образом, около пятидесяти тонн ядерного топлива испарилось и было
выброшено взрывом в атмосферу в виде мелкодисперсных частичек двуокиси урана,
высокорадиоактивных радионуклидов йода-131, плутония-239, нептуния-139,
цезия-137, стронция-90 и многих других радиоактивных изотопов с различными
периодами полураспада. Еще около семидесяти тонн топлива было выброшено с
периферийных участков активной зоны боковыми лучами взрыва в завал со
строительными конструкциями, на крышу деаэраторной этажерки и машинного зала
четвертого энергоблока, а также на околостанционную территорию.
Часть топлива оказалась заброшенной на оборудование, трансформаторы
подстанции, шинопроводы, крышу центрального зала третьего энергоблока,
вентиляционную трубу АЭС.
Следует подчеркнуть, что активность выброшенного топлива достигала 15—20
тысяч рентген в час, и вокруг аварийного энергоблока сразу же образовалось
мощное радиационное поле, практически равное активности выброшенного топлива
(активность ядерного взрыва). С удалением от завала активность падала
пропорционально квадрату расстояния.
Тут же надо отметить, что испарившаяся часть топлива образовала мощный
атмосферный резервуар высокорадиоактивных аэрозолей, особенно плотный и
интенсивно излучающий в районе аварийного энергоблока, да и всей АЭС.
Резервуар этот, быстро наполняясь, разрастался в радиальном направлении, а
разносимый меняющимся ветром, обретал форму огромного зловещего радиоактивного
цветка.
Примерно пятьдесят тонн ядерного топлива и около восьмисот тонн реакторного
графита (всего загрузка графита— 1700 тонн) остались в шахте реактора, образовав
воронку, напоминающую кратер вулкана. (Оставшийся в реакторе графит в
последующие дни полностью выгорел.) Частично ядерная труха через образовавшиеся
дыры просыпалась вниз, в подреакторное пространство, на пол, ведь нижние водяные
коммуникации были оторваны взрывом...
Подробно останавливаюсь на этом, чтобы нарисовать картину радиоактивной
зараженности энергоблока и местности и чтобы читатель смог представить, в каких
ужасных условиях работали пожарники и оперативный персонал, не представлявшие
еще, что же на самом деле произошло.
Чтобы весомо оценить масштабы радиоактивного выброса, вспомним, что атомная
бомба, сброшенная на Хиросиму, весила четыре с половиной тонны, то есть вес
радиоактивных веществ, образовавшихся при взрыве, составил четыре с половиной
тонны.
Реактор же четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС вышвырнул в атмосферу
пятьдесят тонн испарившегося топлива, создав колоссальный атмосферный резервуар
долгоживущих радионуклидов (то есть десять хиросимских бомб без первичных
факторов поражения плюс семьдесят тонн топлива и около семисот тонн
радиоактивного реакторного графита, осевшего в районе аварийного энергоблока).
Подводя предварительные итоги, скажем, что активность в районе аварийного
энергоблока составляла от тысячи до двадцати тысяч рентген в час. Правда, были
места в удалении и за укрытиями, где активность была значительно ниже.
Чего же стоят в таком случае заверения зампреда Совета Министров СССР Б. Е.
Щербины, председателя Госкомитета по использованию атомной энергии СССР А. М.
Петросьянца и первого заместителя председателя Госкомгидромета СССР Ю. С.
Седунова на пресс-конференции 6 мая 1986 года в Москве о том, что
радиоактивность в районе аварийного энергоблока Чернобыльской АЭС составляет
всего лишь 15 миллирентген в час, то есть 0,015 рентгена в час. Думаю, такая,
мягко говоря, неточность непростительна.
Достаточно сказать, что только в городе Припяти радиоактивность на улицах
весь день 26 апреля и несколько последующих дней составляла от 0,5 до 1 рентгена
в час повсеместно, и своевременная правдивая информация и организационные меры
уберегли бы десятки тысяч людей от переоблучения, но...
На анализе радиоактивной зараженности местности и облучении людей на
пространствах от Припяти до Киева и Чернигова я остановлюсь подробнее несколько
позже, ибо без этого анализа нельзя представить как степени героизма работающих
на ликвидации последствий катастрофы, так и ответственности тех, кто по
некомпетентности своей осуществляли безграмотное руководство и по сути дела
привели к трагедии...
Но вернемся несколько назад.
Важны последовательность, количество и места взрывов гремучей смеси,
разрушивших атомный реактор и здание четвертого энергоблока.
После разрушения технологических каналов и обрыва от них пароводяных и
водяных коммуникаций пар, насыщенный испарившимся топливом, вместе с продуктами
радиолиза и пароциркониевой реакции (водород плюс кислород) поступил в
центральный зал, в помещения барабанов-сепараторов справа и слева, в
подаппаратные помещения прочно-плотного бокса.
С обрывом нижних водяных коммуникаций, через которые в активную зону
подавалась охлаждающая вода, атомный реактор был полностью обезвожен. К
сожалению, как мы увидим позже, операторы не поняли этого или не захотели в это
поверить, что вызвало целую цепь неправильных действий, переоблучения и смерти,
которых можно было бы избежать...
Итак—взрывы... Как я уже говорил, они начались вначале в технологических
каналах реактора, когда непомерно возросшим давлением их начало разрушать. Та же
участь постигла нижние и верхние коммуникации реактора. Ведь давление, как мы
помним, росло почти с взрывной скоростью— 15 атмосфер в секунду и очень быстро
достигло 250—300 атмосфер. Рабочие же конструкции технологических каналов и
трубопроводных коммуникаций рассчитаны максимум на 150 атмосфер (оптимальное
давление в каналах реактора—83 атмосферы).
Разорвав каналы и попав в реакторное пространство, рассчитанное всего на 0,8
ат, пар надул его, и прежде всего произошел паровой взрыв металлоконструкций.
Имевшийся паросбросный трубопровод из реакторного пространства был рассчитан на
разрушение только одного-двух технологических каналов, а тут разрушились все...
Приведу фрагмент записи из журнала, сделанный одним из пожарников в 6-й
клинике Москвы:
«Во время взрыва находился возле диспетчерской, на посту дневального. Вдруг
послышался сильный выброс пара. Мы этому не придали значения, потому что выбросы
пара происходили неоднократно за мое время работы (имеется в виду срабатывание
предохранительных клапанов в процессе нормальной работы АЭС.— Г. М.). Я
собирался уходить отдыхать, и в это время — взрыв. Я бросился к окну, за взрывом
последовали мгновенно следующие взрывы...»
Итак—«сильный выброс пара... Взрыв... За взрывом мгновенно последовали
следующие взрывы...»
Сколько же было взрывов? По свидетельству пожарника — как минимум три. Или
больше.
Где могли произойти взрывы? Шум от сильного выброса пара — сработали
предохранительные клапаны реактора, но тут же разрушились, далее рвались
трубопроводы пароводяных и водяных коммуникаций. Возможно, и трубопроводы
контура циркуляции в прочно-плотном боксе. Следовательно, водород с паром
поступил прежде всего в помещения пароводяных коммуникаций, последовали первые
мелкие удары гремучей смеси, которые наблюдал начальник смены реакторного цеха В
Перевозченко в 1 час 23 минуты 40 секунд.
Водород с паром поступил также в помещения барабанов-сепараторов справа и
слева, в центральный зал, в прочно-плотный бокс...
Всего 4,2 процента водорода в объеме помещения достаточно, чтобы началась
взрывная реакция гидролиза, в результате которой образуется всего-навсего
обыкновенная вода.
Итак, взрывы должны были прозвучать справа и слева в шахтах опускных
трубопроводов прочно-плотного бокса, справа и слева в помещениях
барабанов-сепараторов, в парораспределительном коридоре под самим реактором. В
результате этой серии взрывов разрушились помещения барабанов-сепараторов, сами
барабаны-сепараторы, весом 130 тонн каждый, сдвинуло с мертвых опор и оторвало
от трубопроводов. Взрывы в шахтах опускных трубопроводов разрушили помещения
главных циркуляционных насосов справа и слева. В одном из них нашел свою могилу
Валерий Ходемчук.
Затем должен был последовать большой взрыв в центральном зале. Этим взрывом
снесло железобетонный шатер, пятидесятитонный кран и двухсотпятидесятитонную
перегрузочную машину вместе с мостовым краном, на котором она смонтирована.
Взрыв в центральном зале был как бы запалом для атомного реактора, который
был откупорен и в котором было полно водорода. Возможно, оба взрыва — в
центральном зале и реакторе — произошли одновременно. Во всяком случае,
произошел самый страшный и последний взрыв гремучей смеси в активной зоне,
которая была разрушена внутренними разрывами технологических каналов, частью
расплавлена, частью доведена до газообразного состояния.
Этот последний взрыв, выбросивший огромное количество радиоактивных веществ и
раскаленных кусков ядерного топлива, частью упавшего на крышу машинного зала и
деаэраторной этажерки, и вызвал пожар кровли. Вот продолжение записи пожарника
из журнала 6-й клиники Москвы:
«Я увидел черный огненный шар, который взвился над крышей машинного отделения
четвертого энергоблока...»
Или другая запись:
«В центральном зале (отметка плюс 35,6— пол, самого центрального зала не
существовало.— Г. М.) просматривалось не то зарево, не то свечение. Но
там, кроме «пятака» реактора, гореть нечему. Совместно решили, что это свечение
исходит от реактора...»
Эту картину пожарники наблюдали уже с крыши деаэраторной этажерки и с крыши
блока спецхимии (отметка плюс 71 метр), куда они взбирались, чтобы сверху
оценить ситуацию.
Взрывом в реакторе подбросило и развернуло в воздухе плиту верхней биозащиты
весом 2000 тонн. В развернутом, слегка наклонном положении она вновь рухнула на
аппарат, оставив приоткрытой активную зону справа и слева.
Один из пожарников поднялся на отметку пола центрального зала (плюс 35,6) и
заглянул в реактор. Из жерла «вулкана» исходило излучение мощностью около 30
тысяч рентген в час, плюс мощное нейтронное излучение. Однако молодые пожарники,
хотя и догадывались, но до конца не представляли степени грозившей им
радиационной опасности. От топлива и графита, по которым они ходили длительное
время на крыше машзала, тоже «светило» до 20 тысяч рентген в час...
Но оставим на время пожарников, которые вели себя как настоящие герои. Они
гасили видимое пламя и победили его. Но их сжигало и многих сожгло пламя
невидимое, пламя нейтронного и гамма-излучений, которые водой не загасишь...
Их было немного, тех, кто видел взрывы и начало катастрофы со стороны на
близком расстоянии. Свидетельства их поистине исторические,
В момент взрыва в управлении Гидроэлектромонтажа, которое располагалось в
трехстах метрах от четвертого энергоблока, дежурил сторож Даниил Терентьевич
Мируженко, 46 лет от роду. Услышав первые взрывы, подбежал к окну. В это время
раздался последний страшный взрыв, мощный удар, похожий на звук во время
преодоления звукового барьера реактивным истребителем, яркая световая вспышка
озарила помещение. Вздрогнули стены, задребезжали и частью повылетели стекла,
тряхнуло пол под ногами. Это взорвался атомный реактор. В ночное небо взлетел
столб пламени, искры, раскаленные куски чего-то. В огне взрыва кувыркались
обломки бетонных и металлических конструкций.
— Що ж воно так бухае?! — в растерянности, со страхом и тревогой подумал
сторож, ощутив подпрыгивающее сердце в груди и какую-то сразу сжатость и
су-кость во всем теле, будто он вмиг похудел килограммов на десять...
Большой клубящийся черно-огненный шар стал подниматься в небеса, сносимый
ветром.
Потом сразу же за главным взрывом начался пожар кровли машинного зала и
деаэраторной этажерки. Стало видно, как с крыши полился расплавленный битум.
— Вжэ горыть... Бис его... Вжэ горыть...— не успев опомниться от взрывов и
ощутимых сотрясений пола под ногами, прошептал сторож.
Проехали к блоку первые пожарные расчеты от пождепо промплощадки, из окна
дежурки которого пожарники видели картину начала катастрофы. Это были машины из
караула ВПЧ-2 лейтенанта Владимира Правика...
Мируженко бросился к телефону и позвонил в Управление строительства
Чернобыльской АЭС, но никто не ответил. Часы показывали половину второго ночи.
Дежурный отсутствовал или спал. Тогда сторож позвонил начальнику Управления
Гидроэлектромонтажа В. Ф. Выпирайло, но того тоже не оказалось дома. Видимо, был
на рыбалке. Мируженко стал дожидаться утра, рабочего места не покинул. Чем все
кончилось для него, я расскажу чуть позднее...
В это же время с противоположной стороны от атомной станции, ближе к городу
Припять и железнодорожной ветке «Москва—Хмельницкий», на расстоянии 400 метров
от четвертого энергоблока, оператор бетоносмеси-гельного узла комбината
строительных конструкций Чернобыльской АЭС Ирина Петровна Цечельская, находясь
на смене, также услышала взрывы — четыре удара, но осталась работать до утра.
Ведь ее бетоносмесительный узел обеспечивал бетоном изготовление конструкций для
строящегося пятого энергоблока, на котором в ночь с 25 на 26 апреля работало
около 270 человек и от которого напрямую до четвертого блока было 1200 метров.
Радиационный фон там составлял один-два рентгена в час, но воздух тут и всюду
уже был густо насыщен коротко и долго живущими радионуклидами, графитовым
пеплом, радиоактивность которых была очень высока и которыми дышали все эти
люди.
Когда грохнули взрывы, Цечельской невольно подумалось:
«Преодоление звукового барьера... Взрыв котла в ПРК (пускорезервной
котельной)... Рвануло водород в ресиверах?..»
На ум приходило известное уже из прошлого опыта... Но пускорезервная
котельная мирно стояла на месте, там шел плановый ремонт оборудования (на улице
теплынь) ...
Звука летящего самолета не было слышно, как это обычно бывает после звукового
скачка. В ста метрах, ближе к городу Припяти прогромыхал тяжелый товарный
состав, и все стихло.
Потом стал слышен плеск, треск и клекот бушующего пламени над крышей машзала
четвертого блока. Это горели керамзит и битум кровли, подожженные ядерным
запалом.
«Потушат!»—уверенно решила Цечельская, продолжая работу...
На бетоносмесительном узле, где находилась оператор Цечельская, радиационный
фон составлял 10—15 рентген в час.
Наиболее неблагоприятной была радиационная обстановка в северо-западном
направлении от четвертого энергоблока, в сторону железнодорожной станции Янов,
переходного путепровода через железную дорогу от города Припяти до
автомобильного шоссе Чернобыль—Киев. Туда прошло радиоактивное облако после
взрыва реактора. На пути облака лежала и база Гидроэлектромонтажа, из окна
которой сторож Мируженко наблюдал взрывы и развитие событий на крыше машинного
зала. Облако прошло над молодым сосновым лесом, отсекающим город от
промплощадки, обильно посыпав его ядерным пеплом. И станет он к осени и надолго
уже «рыжим лесом», смертельно опасным для всего живого. Со временем его сроют
бульдозерами и захоронят в грунт. А ведь через этот лес пролегала пешеходная
бетонная дорожка, по которой любители передвигаться на своих двоих ходили на
работу и с работы. И я когда-то ходил по этой дорожке на работу...
Радиационный фон снаружи, в районе базы Гидроэлектромонтажа составлял около
30 рентген в час.
О мытарствах Ирины Петровны Цечельской и о ее письме министру энергетики
Майорцу, написанному из Львова 10 июля 1986 года, я расскажу позднее...
Но кто же еще мог видеть взрыв реактора четвертого энергоблока в ту роковую
ночь 26 апреля 1986 года? Такие люди были. И это были рыбаки, которые
практически денно и нощно, как бы сменяя друг друга, потому что каждый рыбачил в
свободное от вахты время, ловили рыбу у места впадения отводящего канала в
пруд-охладитель. Вода после работающих турбин и теплообменного оборудования
всегда теплая, и тут, как правило, хорошо клюет рыба. К тому же — весна, нерест,
клев и вовсе отменный.
Расстояние от места рыбалки до 4-го энергоблока около двух километров.
Радиационный фон достигал здесь полурентгена в час.
Большинство рыбачивших, услышав взрывы и увидев пожар, остались ловить до
утра, иные, ощутив непонятную тревогу, внезапную сухость в горле и жжение в
глазах, вернулись в Припять. Пушечные удары при срабатывании предохранительных
клапанов, похожие на взрывы, приучили людей не обращать на подобные шумы
внимание, а пожар... Потушат. Велика невидаль! Горели ведь Армянская АЭС,
Белоярка...
В момент взрыва в двухстах сорока метрах от 4-го блока, как раз напротив
машинного зала, сидели еще два рыбака на берегу подводящего канала и ловили
мальков. Всякий серьезный рыбак о судаке мечтает. А без малька на судака лучше
не ходить, пустое дело. А он, этот малек, весной особенно, норовит все поближе к
блоку, аккурат к насосной станции, и гуляет здесь, и кишит. Один из рыбаков —
человек без определенных занятий по фамилии Пустовойт. Второй рыбак — Протасов,
командированный наладчик из Харькова. Очень ему понравились здешние места,
хмельной воздух, отличная рыбалка. Подумал даже: перебраться бы сюда на
постоянное жительство. Если удастся, конечно. Все же столичная область, лимит на
прописку, так просто не устроишься. Хорошо ловился малек, и настроение было
хорошее. Теплая, звездная украинская ночь. И не поверишь, что апрель, больше на
июль смахивает. 4-й энергоблок, белоснежный красавец, перед глазами. И приятно
удивляет душу вот это неожиданное сочетание великолепной, ослепляющей атомной
мощи и нежных, плещущихся рыбок в садке.
Они услышали вначале два глухих, словно подземных, взрыва внутри блока.
Ощутимо тряхнуло почву, потом мощный паровой взрыв, и только потом, с
ослепляющим выбросом пламени, взрыв реактора с фейерверком из кусков
раскаленного топлива и графита. В разные стороны летели, кувыркаясь в воздухе,
куски железобетона и стальных балок.
Ядерным светом выхватило из ночи фигурки рыбаков, но они не догадывались об
этом. Ну что-то там рвануло. Бочка с бензином, что ли... Оба продолжали ловить
мальков, не подозревая, что сами они, как мальки, попали в мощные тенета ядерной
катастрофы. Ловили и ловили мальков, с любопытством наблюдая за разворотом
событий. У них на глазах развернули свои пожарные расчеты Правик и Кибенок, люди
бесстрашно взбирались на тридцатиметровую высоту и бросались в огонь.
— Глянь! Видал? Один пожарник аж на блок «В» залез (плюс 71 метр над землей)!
Каску снял! От дает! Герой! Жарко, видать...
Рыбаки схватили по 400 рентген каждый, ближе к утру стало неудержимо тошнить,
очень плохо стало обоим. Жаром, огнем будто обжигает внутри грудь, режет веки,
голова дурная, как после дикого похмелья. И рвота, непрерывная, изматывающая. За
ночь они загорели до черноты, будто в Сочи месяц на солнце жарились. Это и есть
ядерный загар. Но они об этом еще понятия не имели.
Заметили тут, что уже рассвело и что ребята с крыши сползают вроде одурелые,
и тоже выворачивает их. Будто легче при этом стало, вроде как за компанию... Но
что же это такое вот свалилось на них вдруг? Что это такое?..
Так и добрели они до медсанчасти, а потом и в московскую клинику попали...
Значительно позже один из них шутил: «Безграмотное любопытство и
атрофированное чувство ответственности до добра не доведут...»
Гораздо позже, летом 1986 года, портрет Пустовойта появился на обложке одного
заграничного журнала. Человек без определенных занятий стал известен в Европе.
Но горе есть горе. Оно для всех живых одинаковое. А ядерное горе — тем паче, ибо
вообще против всего живого...
Даже утром, 26 апреля к месту рыбалки продолжали подъезжать все новые и новые
рыбаки. Это говорит о многом: о беспечности и безграмотности людей, о давней
привычке к аварийным ситуациям, которые многие годы, оставаясь вне гласности,
сходили с рук. Но к рыбакам вернемся позднее, утром, когда солнышко поднимется в
ядерные небеса...
Сейчас же, прежде чем вернуться в помещение блочного щита управления 4-го
энергоблока, приведу свидетельство еще одного очевидца.
Бывший начальник отдела оборудования монтажного управления Южатомэнергомонтаж
Г. Н. Петров рассказал:
«Из Минска на своей машине я выехал в сторону города Припяти через Мозырь 25
апреля 1986 года. В Минске проводил сына в армию для прохождений службы в
Германии. Младший сын, студент, был в стройотряде на юге Белоруссии. К вечеру 26
апреля он тоже пытался пробраться в Припять, но уже стояли кордоны и его не
пустили.
К городу Припяти я подъезжал где-то около двух часов тридцати минут ночи с
северо-запада, со стороны Шипеличей. Уже возле станции Янов увидел огонь над 4-м
энергоблоком. Четко видна была освещенная пламенем вентиляционная труба с
поперечными красными полосами. Хорошо помню, что пламя было выше трубы. То есть
достигало высоты ста семидесяти метров над землей. Я не стал заворачивать домой,
а решил подъехать поближе к четвертому энергоблоку, чтобы лучше рассмотреть.
Подъехал со стороны управления строительства и остановился метрах в ста от
торца аварийного энергоблока. Увидел в ближнем свете пожара, что здание
полуразрушено, нет центрального зала, сепараторных помещений, красновато
поблескивают сдвинутые со своих мест барабаны-сепараторы. Аж сердцу больно стало
от такой картины. Потом рассмотрел завал и разрушенное гэцээновское помещение.
Возле блока стояли пожарные машины. Проехала к городу скорая с включенной
мигалкой...» — Прерывая рассказ Петрова, скажу, что в том месте, где он
остановил машину, радиационный фон достигал 800—1500 рентген в час, главным
образом от разбросанного взрывом графита, топлива и летящего радиоактивного
облака.— «...Постоял с минуту. Было гнетущее ощущение непонятной тревоги,
онемение, глаза впитывали все и запоминали навсегда. А тревога все шла в душу, и
появился невольный страх. Ощущение невидимой близкой угрозы. Пахло как после
сильного разряда молнии, еще терпким дымом, стало жечь глаза, сушить горло.
Душил кашель. А я еще, чтобы лучше рассмотреть, при-опустил стекла. Была ведь
теплая весенняя ночь. Я хорошо видел, что горит кровля машзала и деаэраторной
этажерки, видел фигурки пожарников, мелькавшие в клубах пламени и дыма,
протянутые вверх от пожарных машин, вздрагивающие шланги. Один пожарник
взобрался аж на крышу блока «В», на отметку плюс 71, видимо, наблюдал за
реактором и координировал действия товарищей на кровле машзала. Они находились
на тридцать метров ниже его... Теперь мне понятно, что он поднялся тогда на
недосягаемую высоту — первый из всего человечества. Даже в Хиросиме люди не были
так близко от ядерного взрыва, бомба там взорвалась на высоте семьсот метров. А
здесь — совсем рядом, вплотную к взрыву... Ведь под ним был кратер ядерного
вулкана и радиоактивность в 30 тысяч рентген в час... Но тогда я этого не знал.
Я развернул машину и поехал к себе домой, в пятый микрорайон города Припяти.
Когда вошел в дом, мои спали. Было около трех часов ночи. Они проснулись и
сказали, что слышали взрывы. Но не знают, что это такое. Вскоре прибежала
возбужденная соседка, муж которой уже побывал на блоке. Она сообщила нам об
аварии и предложила распить бутылку водки для дезактивации организма. Бутылку
дружно, с шутками, распили и легли спать...»
Здесь я прерву рассказ Петрова, который закончу несколько позднее, вечером 27
апреля 1986 года.
Теперь вернемся на блочный щит управления 4-го энергоблока, который мы
покинули за двадцать секунд до взрыва, после того как Александр Акимов нажал
кнопку «АЗ» и поглощающие стержни, не пройдя и половины пути, застряли, так и не
погрузившись в активную зону...
Тут уместно напомнить читателю, что на многих пресс-конференциях, в
материалах, представленных нашей страной в МАГАТЭ, говорилось, что
непосредственно перед взрывом реактор был надежно заглушен, стержни были введены
в активную зону. Эту ложь или недомыслие повторяли с умным видом и непререкаемым
тоном многие журналисты. Заявлял об этом и зампред Совмина СССР Б. Е. Щербина,
утверждавший, что с разрушением реактора была «утрачена критичность» — новое
понятие в ядерной физике...
Однако, как уже говорилось, эффективность аварийной защиты из-за грубых
нарушений технологического регламента была сведена практически к нулю.
Поглощающие стержни после нажатия кнопки «АЗ» вошли в активную зону всего на 2,5
метра вместо положенных семи и не заглушили реакцию, а наоборот, способствовали
разгону на мгновенных нейтронах. Об этой грубейшей ошибке конструкторов
аппарата, в конечном счете послужившей главной причиной ядерной катастрофы, не
было сказано ни на одной пресс-конференции. А надо были сказать. Ведь реактор
РБМК — это та ядерная мина, взрывом которой застойная эпоха оповестила о своем
уходе в мир иной...
Итак, активная зона разрушилась.
«Способна ли оставшаяся в активной зоне часть топлива к ядерной реакции, к
новому взрыву?» — такой вопрос был задан секретарем ЦК КПСС В. И. Долгих
заместителю министра энергетики Г. А. Шашарину в ночь на 27 апреля 1986 года.
1 час 23 минуты 58 секунд... Мгновения перед взрывом... Присутствующие в
помещении блочного щита управления энергоблока находились на следующих местах:
старший инженер управления реактором Леонид Топтунов и начальник смены блока
Александр Акимов — возле левой реакторной части пульта операторов. Рядом с ними
начальник смены блока из предыдущей смены Юрий Трегуб и два молодых стажера,
недавно только сдавших экзамены на СИУРа. Они вышли в ночь, чтобы посмотреть,
как будет работать их дружок Леня Топтунов, и подучиться. Это были Александр
Кудрявцев и Виктор Проскуряков. Двадцать секунд назад была нажата кнопка
аварийной защиты. Оба: и СИУР, и начальник смены блока с недоумением смотрели на
панели щита операторов, где смонтированы сельсины-указатели положения
поглощающих стержней (похожи на шкалы часов-будильников). После нажатия кнопки
«АЗ» загорелись лампы подсветки шкал сельсинов, и создалось впечатление, что они
раскалились докрасна. Акимов бросился к ключу обесточивания сервоприводов
(электроприводы передвижения стержней-поглотителей), нажал его, но стержни вниз
не пошли и уже навечно застряли в промежуточном положении.
— Ничего не понимаю! — смятенно выкрикнул Акимов.
Топтунов, тоже мятущийся и растерянный, с недоуменным выражением на
бледнеющем лице, поочередно нажимал кнопки вызова расхода воды через
технологические каналы и запаса до кризиса. Загорелось мнемоническое табло
каналов (упрощенная схема) — расходы на нуле, что означало: реактор без воды,
стало бытъ, запас до кризиса теплоотдачи...
Грохот со стороны центрального зала говорил о том, что произошел кризис
теплоотдачи и каналы взрываются.
— Ничего не понимаю! Что за чертовщина?! Мы все правильно делали...— снова
вскрикивает Акимов.
К левой, реакторной части пульта операторов подошел высокий, бледный, с
гладко зачесанной назад седой Шевелюрой заместитель главного инженера Анатолий
Дятлов. Непривычно растерян. На лице стереотипное выражение: «Все правильно
делали... Не может быть... Мы все...»
У пульта «П» — в центральной части блочного щита управления (БЩУ), откуда
производилось управление питательно-деаэраторной установкой, находился старший
инженер управления блоком Борис Столярчук. Он производил переключения на
деаэраторно-питательных линиях станции, регулировал подачу питательной воды в
барабаны-сепараторы. Он тоже был растерян, хотя и убежден в полной правильности
своих действий. Неприятно саднили душу резкие удары, доносившиеся из утробы
здания блока. Было желание что-то делать, чтобы прекратить этот угрожающий
грохот. Но он не знал, что делать, ибо природу происходящего не понимал.
У пульта «Т» управления турбоагрегатами (правая часть пульта операторов)
находились: старший инженер управления турбинами (СИУТ) Игорь Кершенбаум,
сдавший ему смену и оставшийся посмотреть, как все будет, Сергей Газин. Именно
Игорь Кершенбаум производил все операции по отключению турбоагрегата № 8 и
выводу турбогенератора № 8 в режим выбега ротора генератора. Работу осуществлял
в соответствии с утвержденной программой и по указанию начальника смены блока
Акимова. Действия свои считал безусловно правильными. Однако, увидев смятение
Акимова, Топтунова и Дятлова, ощутил тревогу. Но у него было дело, волноваться
особенно некогда. Он следил по тахометру вместе с Метленко за оборотами
выбегающего ротора. Все как будто шло нормально. Тут же, у пульта управления
турбинами, за старшего находился заместитель начальника турбинного цеха 4-го
энергоблока Разим Ильгамович Давлетбаев...
А слева, у пульта управления реактором... На мнемотабло каналов видно: нет
воды! Стало быть, превышен запас до кризиса теплоотдачи...
«Что за черт?! —с возмущением и одновременно смятением думал Акимов.— Ведь
восемь главных циркуляционных насосов в работе!»
И тут он глянул на амперметры нагрузки. Стрелки болтались у нулей.
«Сорвали!..— рухнуло у него все внутри, но только на мгновение. Снова ощутил
собранность: — Надо подавать воду...»
В это время — страшные удары справа, слева, снизу, и сразу следом —
сокрушительной силы взрыв всеохватный, казалось, везде, всюду, все рушится,
ударная волна с белой, как молоко, пылью, с горячей влагой радиоактивного пара
удушающим напором ворвалась в помещение блочного щита управления, теперь уже
бывшего энергоблока. Как в землетрясение, волнами заходили стены и пол. С
потолка посыпалось. Звон стекол в коридоре деаэраторной этажерки, погас свет,
остались гореть только три аварийных светильника на аккумуляторной батарее,
треск и молниевые вспышки коротких замыканий — взрывом рвало все электрические
связи, силовые и контрольные кабели...
Дятлов, перекрывая грохот и шум, истошным голосом отдал команду:
«Расхолаживаться с аварийной скоростью!» Но это была скорее не команда, а вопль
ужаса... Шипение пара, клекот льющейся откуда-то горячей воды. Рот, нос, глаза,
уши забило мучнистой пылью, сухость во рту и полная атрофия сознания и чувств.
Молниеносный неожиданный удар лишил всего сразу: чувства боли, страха, ощущения
тяжкой вины и невосполнимого горя.
Но все придет, хотя и не сразу. И первыми вернутся к этим людям бесстрашие и
мужество отчаяния. Но долго еще, почти до самой смерти у некоторых из них
верховодить будет спасительная, убаюкивающая ложь, мифы и легенды, рожденные
задним, уже полубезумным умом...
«Е-моё!..— панически мелькнуло у Дятлова.— Рванула гремучка... Где?.. Похоже,
в аварийном баке СУЗ (системы управления защитой)».
Эта версия, родившаяся в потрясенном мозгу Анатолия Дятлова, еще долго потом
гуляла в умах, тешила кровоточащее сознание, парализованную, порой конвульсивно
вздрагивающую волю, дошла до Москвы, и вплоть до 29 апреля в нее верили, она
была основой многих, порою гибельных для жизни действий. Но почему же? А потому,
что это был наиболее легкий подход. В нем было и оправдание, и спасение для
виновных снизу доверху. Особенно для тех, кто чудом уцелел в радиоактивном чреве
взрыва. Ведь им нужны были силы, а их давала хотя бы отчасти успокоенная
совесть. Ведь впереди была ночь, непереносимая, и все же побежденная ими ночь
смерти...
— Что происходит?! Что это?! — вскричал Александр Акимов, когда пылевой туман
чуть рассеялся, грохот смолк, и только шипение радиоактивного пара и льющейся
воды остались главными негромкими звуками издыхающего ядерного гиганта.
Рослый, могучий 35-летний Александр Акимов, с широким розовощеким лицом, в
очках, с темной волнистой шевелюрой, теперь покрытой пудрой радиоактивной пыли,
внутренне метался, не зная, что предпринять.
«Диверсия?!.. Не может быть!.. Все правильно делали...»
Старший инженер управления реактором Леонид Топтунов — молоденький,
пухленький, румяный, усы щеточкой, ему 26 лет, всего три года после института —
растерян, бледен, впечатление, будто ожидает удара, но не знает, с какой стороны
он последует.
В помещение БЩУ вбежал задыхающийся Перевозченко.
— Александр Федорович! — сбивчиво дыша, бледный, весь в пыли и ссадинах,
крикнул он Акимову.— Там—Он вскинул руку вверх, в сторону центрального зала.-—
Там что-то страшное... Разваливается пятачок реактора... Плиты сборки
одиннадцать прыгают как живые... И эти... Взрывы... Вы слышали? Что это?..
На блоке в этот миг стояла глухая, ватная тишина, нарушаемая только
непривычным, поражающим до глубины души незнакомым шипением пара и звуком
льющейся воды. В ушах звенело от этой тишины, которая наступила после
вулканических, оглушающих ударов стихии. Остро стал ощущаться воздух. Будто
запах озона, только очень резкий. Запершило в горле...
Старший инженер управления блоком Борис Столярчук, бледный, с каким-то
ищущим, беспомощным выражением лица, вопросительно и напряженно смотрел на
Акимова и Дятлова.
— Спокойно! — сказал Акимов.— Мы все делали правильно... Произошло
непонятное...— И к Перевозченко:— Сбегай, Валера, наверх, посмотри, что там...
В этот миг распахнулась дверь, ведущая в помещение блочного щита управления
из машинного зала. Вбежал закопченный, сильно встревоженный старший машинист
турбины Вячеслав Бражник.
— Пожар в машзале! — пронзительно выкрикнул он, добавил еще что-то непонятное
и пулей выскочил назад, в огонь и бешеную радиацию.
Вслед за ним в машзал бросились заместитель начальника турбинного цеха Разим
Давлетбаев и руководитель группы Чернобыльского пусконаладочного управления Петр
Паламарчук, вышедший в ночь для снятия вибрационных характеристик генератора № 8
совместно с сотрудниками Харьковского турбинного завода. К открытой двери
подскочили Акимов и Дятлов. Там был ужас. Что-то невообразимое. Горело в
нескольких местах на двенадцатой и нулевой отметках. Над седьмой турбиной завал,
рухнула кровля. Перебило маслопроводы, на пластикат хлестало горячее масло. От
завала вверх поднимался дым. На желтом пластикате валялись раскаленные
графитовые блоки и куски топлива. Вокруг них пластикат разгорался красным
коптящим пламенем.
Дым, чад, черный пепел, хлопьями спадающий вниз, хлещущее из разбитой трубы
горячее масло, проломленная кровля, вот-вот готовая рухнуть, покачивающаяся над
пропастью машзала панель перекрытия. И шум, клекот бушующего где-то вверху огня.
Мощная струя радиоактивного кипятка, бьющая из разбитого фланца питательного
насоса в стену конденсатного бокса. Яркое фиолетовое свечение на нулевой отметке
— горит вольтова дуга на перебитом высоковольтном кабеле. Пробит маслопровод на
нуле, горит масло. От пролома кровли машзала вниз, к седьмой турбине, опускается
густой столб черной радиоактивной графитовой пыли. Столб этот расширялся у
двенадцатой отметки, расползался по горизонтали и спускался вниз, накрывая людей
и оборудование.
Акимов бросается к телефону:
— «02»! Быстро!.. Да-да! Пожар в машзале!.. Кровля тоже!.. Да-да!.. Уже
выехали?! Молодцы!.. Быстро!..
Караул лейтенанта Правика уже разворачивал свои машины у стен машзала, уже
началось...
Дятлов выскочил из БЩУ и, гремя бутсами, проскальзывая с раздирающим душу
скрежетом на битом стекле, вбежал в помещение резервного пульта управления, что
напротив, вплотную к лестнично-лифтовому блоку. Нажал кнопку «АЗ» пятого рода и
ключ обесточивания электроприводов. Поздно. Зачем? Реактор разрушен...
Но Анатолий Степанович Дятлов считал иначе: реактор цел, взорвался бак СУЗ
(системы управления защитой) в центральном зале. Реактор цел... Реактор цел...
Стекла в помещении РПУ (резервного пульта управления) выбиты, с визгом
проскальзывают под ногами, сильно пахнет озоном. Дятлов выглянул в окно, высунув
голову наружу. Ночь. Гул и клекот бушующего наверху пожара. В красноватом
отсвете огня виден страшный завал из строительных конструкций, балок, крошеного
кирпича и бетона. На асфальте вокруг блока что-то валяется. Очень густо.
Черным-черно... Но в сознание не шло, что это графит из реактора. Как и в
машзале. Там тоже глаза видели раскаленные куски графита и топлива. Но сознание
не принимало страшный смысл увиденного...
Он вернулся в помещение блочного щита управления. В душе то вздымалась до
звона упругая воля к действию, то обрушивалось все в пропасть безнадежности и
апатии.
Войдя в помещение БЩУ, Дятлов прислушался. Петр Паламарчук тщетно пытался
связаться с шестьсот четвертым помещением, где находился с приборами его
подчиненный Володя Шашенок. Связи не было. К этому времени Паламарчук успел уже
обежать турбогенератор номер восемь, спустился на нулевую отметку, нашел
харьковчан в лаборатории на колесах, смонтированной на машине «Мерседес-Бенц».
Настоял, чтобы они покинули
машзал. Правда, двое из них успели уже сходить к завалу и получили летальную
дозу...
Акимов тем временем обзвонил уже всех начальников служб и цехов, просил
помощи. Срочно электриков. Пожар в машзале. Нужно вытеснять водород из
генераторов, восстанавливать энергоснабжение ответственных потребителей.
— Стоят ГЦНы! — кричал он заместителю начальника электроцеха Александру
Лелеченко.— Ни один насос запустить не могу! Реактор без воды! Быстро на помощь!
Давлетбаев позвонил из телефонной будки машзала Акимову и Кершенбауму:
— Не дожидаясь прибытия электриков, немедленно вытеснять водород из восьмого
генератора!
Нет связи с дозиметристом. Отрубился коммутатор. Работают только городские
телефоны. Все операторы нутром ощущают радиацию. Но сколько? Какой фон?
Неизвестно. Приборов на БЩУ нет. Респираторов «лепесток» тоже нет. Нет и
таблеток йодистого калия. Сейчас бы неплохо глотнуть всем по таблетке. Мало ли
что... Со щитом дозиметрии связь не получается.
— Иди, Петро,— просит Акимов Паламарчука, заскочи к Коле Горбаченко, узнай,
почему молчит...
— Мне к Шашенку, к Шашенку надо. Там что-то неладно. Он не отвечает...
— Бери Горбаченку и идите к Шашенку...— Акимов переключился на другое. Надо
доложить Брюханову, Фомину... Надо... Ох, как много всего надо... Реактор без
воды. Стержни СУЗ (поглощающие стержни системы управления защитой) застряли на
полпути... Сознание спутывалось, его душил... Да, его душил стыд... То горячая,
то ледяная волна обжигала сердце, как только воспаленное сознание пыталось
донести до него всю правду случившегося. Ах, этот чертов шок! Шок от сознания
величайшей ответственности. Вся тяжесть ее горой навалилась на него. Что-то надо
делать. Все ждут от него... Рядом без дела толкаются стажеры СИУРа Проскуряков и
Кудрявцев... Стержни застряли... Конечно... А если вручную, из центрального
зала, опустить вниз?.. Идея!.. Акимов оживился.
— Проскуряков, Кудрявцев,— просительно сказал он, хотя имел полное право
приказывать. Ведь все, кто оказался в помещении БЩУ в момент аварии, попадали в
его непосредственное распоряжение. Но он просил: — Парни, надо быстренько в
центральный зал. За рукояточки покрутите. Надо опустить СУЗы вниз вручную.
Что-то отсюда не идет...
Проскуряков и Кудрявцев пошли. Хорошие мои, пошли. Молодые, такие молодые, и
ни в чем не виноватые. Пошли к смерти...
Валерий Перевозченко, кажется, первый понял весь ужас случившегося. Он видел
начало катастрофы. Он уже верил в невосполнимость, в страшную правду разрушений.
Он видел в центральном зале такое... После того, что он видел, реактор
существовать не может. Его просто нет. А раз его нет, значит... Надо спасать
людей. Его подчиненных парней надо спасать. Он за их жизни головой в ответе. Так
свою ответственность определил в эти минуты начальник смены реакторного цеха
Валерий Иванович Перевозченко. И первое, что он сделал, кинулся искать Валеру
Ходемчука...
Свидетельство Николая Феодосьевича Горбаченко— дежурного службы дозиметрии
в смене Акимова:
«В момент и после взрыва я находился в помещении щита дозиметрии. Тряхнуло
несколько раз со страшной силой. Я подумал — все, крышка. Но смотрю — живой,
стою на ногах. Со мной на щите дозиметрии был еще один товарищ, мой помощник
Пшеничников, совсем молодой парень. Я открыл дверь в коридор деаэраторной
этажерки, оттуда клубы белой пыли и пара. Пахнет характерным запахом пара. Еще
вспышки разрядов. Короткие замыкания. Панели четвертого блока на щите дозиметрии
сразу погасли. Никаких показаний. Что творится на блоке, какая радиационная
обстановка — не знаю. На панелях третьего блока (у нас объединенный щит на
очередь) — сработала аварийная сигнализация. Все приборы пошли на зашкал. Я
нажал тумблер «БЩУ», но коммутатор обесточился. Связи с Акимовым нет. По
городскому телефону доложил начальнику смены службы дозиметрии Самойленко,
который находился на щите КРБ (контроля радиационной безопасности) первой
очереди. Тот перезвонил руководству службы радиационной безопасности: Красножону
и Каплуну. Попытался определить радиационную обстановку у себя в помещении и в
коридоре, за дверью... Имелся только радиометр «ДРГЗ» на тысячу микрорентген в
секунду. Показал зашкал. Был у меня еще один прибор со шкалой на 1000 рентген в
час, но при включении он, как назло, сгорел. Другого не было. Тогда я прошел на
блочный щит управления и доложил Акимову ситуацию. Везде зашкал на 1000
микрорентген в секунду. Стало быть, где-то около четырех рентген в час. Если
так, то работать можно около пяти часов. Конечно, из условий аварийной ситуации.
Акимов сказал, чтобы я прошел по блоку и определил дозиметрическую обстановку. Я
поднимался до плюс двадцать седьмой отметки по лестнично-лифтовому блоку, но
дальше не пошел. Прибор всюду зашкаливал. Пришел Петя Паламарчук, и мы с ним
пошли в шестьсот четвертое помещение искать Володю Шашенка...»
А в это время в машзале, на отметке ноль, горело в нескольких местах.
Проломило перекрытие, на пол и на оборудование упали раскаленные куски топлива и
графита, куском бетонного перекрытия разбило маслопровод, горело масло. Разбило
также задвижку на всасывающей линии питательного насоса, хлестал радиоактивный
кипяток в сторону конденсатного бокса. В любой момент могли взорваться маслобак
турбины и водород в генераторе. Надо было действовать...
Но оставим на некоторое время машинный зал, где эксплуатационники, не щадя
жизни, проявляли чудеса героизма и не дали огню распространиться на другие
блоки. Это был подвиг. Не меньший, чем тот, который совершили пожарные...
Тем временем стажеры СИУРа Проскуряков и Кудрявцев, выполняя распоряжение
Акимова, выбежали в коридор деаэраторной этажерки и по привычке свернули
направо, к лифту в блоке ВСРО (вспомогательных систем реакторного отделения), но
увидели, что шахта разрушена, покореженный неведомой силой лифт валяется на
обломках строительных конструкций. Тогда они вернулись назад, к
лестнично-лифтовому блоку. Резко, как после грозы, но еще сильнее — пахло
озоном. Расчихались. И еще какая-то сила ощущалась вокруг. Но они стали
подниматься наверх...
За ними в коридор деаэраторной этажерки выскочил Перевозченко, предупредивший
Акимова и Дятлова, что пошел искать подчиненных, которые могли оказаться в
завале. Перво-наперво он подбежал к выбитым окнам, выглянул наружу. Организм
всем существом ощущал излучение. Чрезмерно сильно пахло как бы свежестью,
послегрозовым воздухом, но во много крат сильнее. Во дворе — ночь. В ближнем
ночном небе красные отсветы горящей кровли деаэраторной этажерки и пожара в
центральном зале. Если нет ветра, воздух обычно не ощущается. А здесь
Перевозченко ощущал будто давление невидимых лучей, пронизывающих его насквозь.
Его охватил идущий откуда-то из глубины существа какой-то особо нутряной
панический страх. Но тревога за товарищей брала верх. Он посильнее высунул
голову и посмотрел вправо. Понял, что реакторный блок разрушен. Там, где были
стены помещений главных циркуляционных насосов, в темноте виден завал из битых
строительных конструкций, труб и оборудования. Выше?.. Он поднял голову.
Помещений барабанов-сепараторов тоже нет. Значит, взрыв в центральном зале. Там
видны очаги пожаров. Их много...
«Ах, нет защитных средств... Ничего нет...» — с досадой подумал он, вдыхая
полной грудью воздух с радионуклидами. Легкие обжигает огнем. Первая
подавленность прошла.
Перевозченко ощутил в груди, на лице, во всем существе своем внутренний жар.
Будто весь он загорелся изнутри. Горит! Горит!
«Что же мы сотворили?! —внутренне воскликнул Валерий Иванович.— Ребята
гибнут... В центральном зале, где был взрыв,—операторы Кургуз и Генрих... В
помещениях ГЦН — Валера Ходемчук... В киповском помещении под питательным узлом
реактора — Володя Шашенок... Куда бежать, кого искать первым?..»
Прежде всего надо выяснить радиационную обстановку. Перевозченко побежал,
скользя на осколках стекол, к помещению щита КРБ (контроля радиационной
безопасности), к Горбаченко.
Дозиметрист был бледен, но собран.
— Какой фон, Коля? — спросил Перевозченко. Лицо его уже горело бурым огнем.
— Да вот... На диапазоне 1000 микрорентген в секунду зашкал, панели
четвертого блока погасли...— Горбаченко виновато улыбнулся.— Будем считать, что
где-то около четырех рентген в час. Но, похоже, много больше...
— Что ж вы даже приборами не разжились?
— Да был прибор на 1000 рентген, но сгорел. Второй — в каптерке закрыт. Ключ
у Красножона. Только я смотрел—та каптерка в завале. Не подступишься... Сам
знаешь, какая была концепция. О предельной аварии никто всерьез не думал. Не
верил... Сейчас пойду с Паламарчуком Шашенка искать. Не откликается из шестьсот
четвертого...
Перевозченко покинул щит дозиметрии и побежал к помещению главных
циркнасосов, где оставался перед взрывом Валера Ходемчук. Это ближе всего.
В сторону щита дозиметрии бежал из БЩУ Петя Паламарчук, начальник лаборатории
Чернобыльского пусконаладочного предприятия. Он и его подчиненные обеспечивали
снятие характеристик и параметров различных систем в режиме выбега ротора.
Теперь было ясно, что в наиболее опасном месте, в монолитном реакторном блоке,
где только что бушевала стихия, в шестьсот четвертом помещении безмолствовал
Шашенок. Что с ним? Помещение это ключевое. Туда сходились импульсные линии от
главных технологических систем к датчикам. Если порвало мембраны...
Трехсотградусный пар, перегретая вода... На звонки не отвечает. В трубке
непрерывные гудки. Стало быть, трубку сбило с аппарата. За пять минут до взрыва
с ним была отличная связь.
Паламарчук и Горбаченко бежали уже к лестнично-лифтовому блоку.
— Я за Ходемчуком! — крикнул им Перевозченко, глядя, как они нырнули из
коридора деаэраторной этажерки в монолитную часть разрушенного реакторного
отделения. А ведь там всюду были разбросаны топливо и реакторный графит.
Паламарчук с Горбаченко побежали по лестнице вверх, на плюс двадцать
четвертую отметку (плюс двадцать четыре метра над уровнем земли). Перевозченко
по недлинному коридору на десятой отметке — в сторону разрушенного помещения
ГЦН...
В это время молодые стажеры СИУРа Кудрявцев и Проскуряков приближались,
продираясь сквозь завалы, к тридцать шестой отметке, на которой находился
реакторный зал. Наверху, усиленный эхом каньона лифтового блока, слышен был
клекот пламени, крики пожарников, долетавшие с кровли машзала, и где-то совсем
близко, видимо, с пятачка реактора.
«Там тоже горит?..» — мелькнуло у парней. На тридцать шестой отметке все было
разрушено. Через завалы и нагромождения конструкций стажеры прошли в большое
помещение вентиляционного центра, отделенного от реакторного зала теперь
разрушенной монолитной стеной. Было хорошо видно, что центральный зал надуло
взрывом как хороший пузырь, а потом оторвало верхнюю часть, и стена осталась
прогнутой, и арматура торчит радиальными рванинами. Кое-где бетон осыпался, и
видна голая арматурная сетка. Ребята постояли немного, потрясенные, с трудом
узнавая столь знакомые раньше помещения. Их распирала необычная и необъяснимая
для такого горя веселость, несмотря на то, что страшно жгло грудь при дыхании,
ломило в висках, горели веки, будто туда капнули соляной кислотой.
Вдоль коридора в осях 50—52 прошли, проскальзывая на осколках стекла, к входу
в центральный зал. Вход находился ближе к наружной торцевой стене по ряду «Р».
Коридор узкий, заваленный битыми конструкциями, стеклом. Над головой ночное небо
в красных отблесках пожара, в воздухе дым, гарь, едкая и удушливая, и сверх
всего этого ощущение присутствия еще какой-то иной силы в воздухе, который стал
пульсирующим, плотным, жгучим. Это мощная ядерная радиация ионизировала воздух,
и он воспринимался теперь как новая, пугающая, не пригодная для жизни человека
среда.
Без респираторов и защитной одежды они подошли к входу в ЦЗ (центральный зал)
и, минуя три распахнутые настежь двери, вошли в бывший реакторный зал,
заваленный покореженной рухлядью и тлеющими обломками. Они увидели пожарные
шланги, свисающие в сторону реактора. Из стволов лилась вода. Но людей уже не
было. Пожарные отступили отсюда несколько минут назад, теряя сознание и
последние силы.
Проскуряков и Кудрявцев оказались фактически у ядра атомного взрыва (имею в
виду прежде всего уровень радиации). Но где же реактор? Неужели это...
Круглая плита верхней биологической защиты с торчащими во все стороны
обрывками тонких нержавеющих трубок (система КЦТК — контроль целостности
технологических каналов) под некоторым углом лежала на шахте реактора.
Бесформенно свисала во все стороны арматура разрушенных стен. Значит, плиту
подбросило взрывом, и она снова, наклонно уже, упала на реактор. Из жерла
разрушенного реактора шел красный и голубой огонь с сильным подвывом. Видно,
была хорошая тяга. Сквозной ток воздуха. В лица стажеров ударил ядерный жар с
активностью тридцать тысяч рентген в час. Они невольно прикрыли лицо руками,
заслоняясь как бы от солнца. Было совершенно ясно, что никаких поглощающих
стержней нет, они летают, видать, на орбите вокруг земли. Так что в активную
зону опускать теперь нечего. Просто нечего...
Проскуряков и Кудрявцев пробыли возле реактора около минуты, накрепко
запоминая все, что увидели. Этого оказалось достаточно, чтобы получить
смертельную дозу радиации. (Оба умерли в страшных муках в 6-й клинике Москвы.)
Тем же путем, с чувством глубокой подавленности и внутреннего панического
чувства, сменившего ядерное возбуждение, вернулись они на десятую отметку, вошли
в помещение блочного щита управления и доложили обстановку Акимову и Дятлову.
Лица и руки у них были буро-коричневые. Такого же цвета была кожа и под одеждой,
что выяснилось уже в медсанчасти...
— Центрального зала нет,— сказал Проскуряков.— Все снесло взрывом. Небо над
головой. Из реактора огонь...
— Вы, мужики, не разобрались...— растягивая слова, глухо произнес Дятлов.—
Это что-то горело на полу, а вы подумали,— реактор. Видимо, взрыв гремучей смеси
в аварийном баке СУЗ (системы управления защитой) снес шатер. Помните, этот бак
на семидесятой отметке, вмонтирован в наружную торцевую стену центрального
зала... Это так... И не удивительно. Объем бака — сто десять кубов — немалый,
так что... Таким взрывом не только шатер, но и весь блок могло разнести... Надо
спасать реактор. Он цел... Надо подавать воду в активную зону.
Так родилась легенда: Реактор цел. Взорвался бак аварийной воды СУЗ. Надо
подавать воду в реактор.
Эта легенда была доложена Брюханову и Фомину. И далее — в Москву. Все это
породило много ненужной, лишней и даже вредной работы, усугубившей положение на
атомной станции и увеличившей число смертей...
Проскурякова и Кудрявцева отправили в медсанчасть. Пятнадцатью минутами
раньше туда же были отправлены операторы реакторного зала Кургуз и Генрих,
которые находились рядом с реактором, когда грохнули взрывы...
Они сидели в своем рабочем помещении после осмотра центрального зала и ждали
прихода Перевозченко, чтобы получить задание на всю смену. Примерно за четыре
минуты до взрыва реактора Олег Генрих сказал Анатолию Кургузу, что устал и
немного поспит. Он вошел в небольшую соседнюю комнатку, площадью примерно шесть
квадратных метров, глухую, без окон. Там находился топчан. Генрих закрыл дверь и
лег.
Анатолий Кургуз сел за рабочий стол и сделал запись в оперативном журнале.
Его отделяли от центрального зала три открытые двери. Когда взорвался атомный
реактор, высокорадиоактивный пар с топливом хлынул в помещение, где сидел
Кургуз. В кромешном огненном аду он бросился к двери, чтобы закрыть ее. Закрыл.
Крикнул Генриху:
— Очень жгет! Очень жгет!
Генрих вскочил с топчана, бросился открывать свою дверь, приоткрыл, но из-за
двери пахнуло таким нестерпимым жаром, что он не стал больше пытаться,
инстинктивно лег на пластикатовый пол, здесь было чуть прохладней, и крикнул
Кургузу:
— Толя, ложись! Внизу холоднее!
Кургуз вполз в каморку к Генриху, и они оба легли на пол.
«Здесь хоть можно было дышать. Не так жгло легкие»,— вспоминал впоследствии
Генрих.
Они подождали минуты три. Жар стал спадать (над головой ведь открылось небо).
Потом вышли в коридор в осях 50—52. У Кургуза сварило кожу на лице и руках. Она
висела лоскутьями. С лица и рук сильно шла кровь.
Они пошли не к лестнично-лифтовому блоку, откуда вскоре придут стажеры
Проскуряков и Кудрявцев, а в противоположную, в сторону «чистой лестницы» и
спустились на десятую отметку. Если бы они встретили стажеров, то наверняка
вернули бы их назад и тем самым спасли бы им жизнь. Но случилось иначе. Они
разминулись...
По пути к блочному щиту управления, на двенадцатой отметке к Генриху и
Кургузу присоединились операторы газового контура Симеконов и Симоненко. В их
сопровождении они направились на БЩУ-4. Кургузу было очень плохо. Он истекал
кровью. Ему трудно было помогать. Кожа под одеждой тоже вздулась пузырями. Любое
прикосновение причиняло пострадавшему нестерпимую боль. Откуда он еще брал силы
идти своими ногами. Генриха обожгло меньше — спасла глухая комнатенка. Но оба
схватили по шестьсот рентген...
Они уже шли по коридору деаэраторной этажерки, когда из помещения блочного
щита управления вышел Дятлов. Он бросился к ним.
— Немедленно в медсанчасть!
До здравпункта, а он находился в административном корпусе первого блока, по
коридору деаэраторной этажерки — метров четыреста пятьдесят — пятьсот.
— Сможешь дойти, Толя? — спросили ребята Кургуза.
— Не знаю... Нет, наверное... Все тело болит... Все болит...
И правильно сделали, что не пошли. Здравпункт первой очереди оказался
закрытым. В здравпункте второй очереди фельдшера также на этот раз не было.
Такая была самоуверенность у товарища Брюханова. Все безопасно! Концепция
застойной эпохи в действии...
Вызвали «скорую» к АБК (административно-бытовому корпусу) второй очереди,
спустились на нулевую отметку, вышибли чудом уцелевшее стекло в окне и через
него вышли наружу...
Дятлов несколько раз бегал на БЩУ 3-го блока. Приказал Багдасарову глушить
реактор. Багдасаров запросил у Брюханова и Фомина добро на останов третьего
блока, но разрешения не получил. Операторы из центрального зала 3-го блока
сообщили своему начальнику, что включилась аварийная звуковая и световая
сигнализация. Похоже, резко возросла активность... Они еще не знали, что это
топливо и графит, заброшенные взрывом на кровлю ЦЗ-3 (центрального зала-3),
простреливают сквозь бетонное перекрытие...
Вернувшись очередной раз на БЩУ-4, Дятлов отдал команду Акимову:
— Еще раз обзвони дневной персонал цехов. Всех на аварийный блок! В первую
голову электриков, Лелеченко. Надо отрубить водород с электролизерной на восьмой
генератор. Это сделают только они. Действуй! Я пройдусь вокруг блока...
Дятлов покинул блочный щит управления.
Давлетбаев несколько раз вбегал из машзала в помещение БЩУ, докладывал
обстановку. Там полно разного народу. Дозиметрист Самойленко замерил Давлетбаева
прибором: «От тебя. Разим, на всех диапазонах зашкал! Срочно переодевайся!» Как
назло комплект защитных средств машзала закрыт на замок. Послали богатыря
Бражника взломать ломиком...
Акимов приказал старшему инженеру управления блоком (СИУБу) Столярчуку и
машинисту Бусыгину включать питательные насосы, чтобы подать воду в реактор...
— Александр Федорович! — вскричал Давлетбаев. — Оборудование обесточено! Надо
срочно электриков, задействовать распредустройства на нуле... Не знаю, как они
будут делать. Порвало кабельные связи. Всюду молнии коротких замыканий.
Ультрафиолетовое свечение на нуле возле питательных насосов. То ли тэвэска
светит (кусок топлива), то ли вольтова дуга короткого замыкания...
— Сейчас прибудет Лелеченко со своими орлами!
Давлетбаев снова нырнул в кромешный ад машинного зала. На нуле Тормозин
забивал деревянные чопы в дырки на маслопроводе. Чтобы было удобнее, сел на
трубопровод и получил аппликационный ожог ягодиц. Давлетбаев бросился к завалу
седьмой турбины, но подойти невозможно. Страшно скользко. Масло на пластикате.
Включили душирующее устройство. Турбину обволокло водяным туманом. С пульта
отключили масло-насос...
Возле седьмой машины телефонная будка, из которой машинисты все время звонили
на БЩУ. Против будки, за окном — пятый трансформатор, на нем оказался кусок
топлива, о котором не знали. Там получили смертельную дозу Перчук, Вершинин,
Бражник, Новик...
Тем временем в помещении БЩУ без дела толкался руководитель неудавшегося
электроэксперимента Геннадий Петрович Метленко. Его наконец заметил Акимов и
попросил:
— Будь другом, иди в машзал, помоги крутить задвижки. Все обесточено. Вручную
каждую открывать или закрывать не менее четырех часов. Диаметры огромные...
Щупленький, небольшого роста, с остроносым сухощавым лицом, представитель
«Донтехэнерго» побежал в машинный зал. Трагедия развернулась там на нулевой
отметке. Упавшей фермой перебило маслопровод турбины. Горячее масло хлынуло
наружу и загорелось от кусков раскаленного ядерного топлива. Машинист Вершинин
погасил огонь и бросился помогать товарищам, чтобы предотвратить дальнейшее
возгорание и взрыв маслобака. Бражник, Перчук, Тормозин тушили очаги пожара в
других местах. Повсюду валялись высокоактивное топливо и реакторный графит,
упавшие в машзал через пролом кровли. Гарь, радиация, сильно ионизированный
воздух, черный ядерный пепел от горящего графита и сгорающей наверху битумной
кровли.
Куском фермы перекрытия разбило фланец на одном из аварийных питательных
насосов. Его надо было отключить по всасывающей и напорным линиям от
деаэраторов. Задвижки крутить вручную не менее четырех часов. Другой насос надо
готовить к работе на «реактор». Тоже вручную крутить задвижки. Радиационные поля
на нулевой отметке машзала — от пятисот до пятнадцати тысяч рентген в час.
Метленко отправили назад на блочный щит.
«Обойдемся! Не мешай!..»
С электриками акимовской вахты Давлетбаев организовал замещение в генераторе
водорода на азот, чтобы избежать взрыва. Слили аварийное масло из маслобаков
турбины в аварийные емкости снаружи энергоблока. Маслобаки залиты водой...
Турбинисты в эту роковую ночь 26 апреля 1986 года совершили выдающийся
подвиг. Если бы они не сделали то, что сделали, пламя пожара охватило бы весь
машзал изнутри, рухнула бы кровля, огонь перекинулся бы на другие блоки, а это
могло привести к разрушению всех четырех реакторов. Последствия трудно
вообразить...
Когда пожарные Телятникова, погасив огонь на кровле, в пять утра появились
внутри машзала, там все уже было сделано... Был подготовлен также к работе
второй аварийный питательный насос (АПЭН) и включен в работу на несуществующий
уже реактор. Акимов и Дятлов предполагали, что вода пошла именно в реактор.
Однако она туда не могла пойти по той простой причине, что все трубопроводные
коммуникации низа были оторваны взрывом, и вода от второго АПЭНа шла в
подаппаратное помещение, куда просыпалось много разрушенного ядерного топлива.
Смешиваясь с топливом, высокорадиоактивная вода уходила на низовые отметки
деаэраторной этажерки, затапливая кабельные полуэтажи и распредустройства,
приводя к коротким замыканиям и угрозе потери энергоснабжения работающих еще
энергоблоков. Ведь все энергоблоки Чернобыльской АЭС по деаэраторной этажерке,
где проходят основные кабельные трассы, связаны между собой...
К пяти утра — многократные рвоты и очень плохое самочувствие у Давлетбаева,
Бусыгина, Корнеева, Бражника, Тормозина, Вершинина, Новика, Перчука. Отправлены
в медсанчасть. Давлетбаев, Бусыгин, Корнеев выживут, получив примерно по триста
пятьдесят рентген. Выживет и Тормозин — получивший намного больше.
Бражник, Перчук, Вершинин и Новик получили по тысяче и более рад.
Мученической смертью умрут в Москве...
Но вернемся к началу аварии. Пройдем с Валерием Ивановичем Перевозченко его
путь к смерти. Он ведь искал Ходемчука, он хотел спасти всех своих подчиненных.
Этот человек не знал страха. Мужество и долг вели его в ад кромешный...
Тем временем Паламарчук и Горбаченко по лестнично-лифтовому блоку
продвигались через завалы к двадцать четвертой отметке, в шестьсот четвертое
киповское помещение, где замолчал Володя Шашенок.
«Что с ним?.. Хоть бы жив...» — мелькало у Паламарчука.
После серии грозных взрывов на блоке было относительно тихо, только через
проломы слышны клекот и шум пламени горящей кровли машзала, пронзительные
выкрики людей, гасящих огонь, надсадное подвывание разрушенного атомного
реактора, в котором горел графит. Все это было как бы дальним фоном, а ближе —
ручейковое журчание или дождевой шум льющейся откуда-то радиоактивной воды —
вверху, внизу, не поймешь, какое-то усталое остаточное шипение радиоактивного
пара, и воздух... Воздух был загустевший, непривычный. Сильно ионизированный
газ, острый запах озона, жжение в горле и легких, надсадный кашель, резь в
глазах...
Они бежали без респираторов, в полной темноте, освещая себе дорогу карманными
фонариками, которые имел при себе каждый эксплуатационник...
Перевозченко по короткому переходному коридору на десятой отметке пробежал в
сторону гэцээновского помещения, где остался Валера Ходемчук, и остановился,
пораженный. Помещения не было. Вверху — небо, отсветы бушующего над машзалом
пламени, а прямо перед ним — груды обломков, нагромождение крошева строительных
конструкций, изуродованного оборудования и трубопроводов.
В завале было также очень много реакторного графита и топлива, от которых
«светило» излучение мощностью не менее десяти тысяч рентген в час. Перевоэченко,
ошеломленный, водил лучом фонаря по всей этой разрухе, и им владела одна
скачущая, странная мысль: как же он здесь... Разве здесь можно быть?.. Но
упрямое: найти, спасти Валеру. Обязательно спасти — пересиливало. Он напряженно
прислушивался, пытаясь уловить хотя бы слабый голос или стон человека...
А еще наверху Генрих, Кургуз... Там, где был взрыв... Он их тоже спасет...
Обязательно... Это его люди, его подчиненные... Он не оставит их...
А время шло. Каждая секунда, каждая лишняя минута здесь гибельны. Тело
начальника смены реакторного цеха все поглощает и поглощает рентгены, все темнее
становится ядерный загар в темноте ночи. И «загорают» не только лицо и руки, но
и все тело под одеждой. Загорает... Горит, горит... Жжет нутро...
— Валера-а! — изо всех сил кричит Перевозченко. — Валера-а! Откликнись! Я
зде-есь! Не бойся! Мы спасем тебя-а-а!
Он рванул прямо к завалу, полез по обломкам, тщательно ища расщелины среди
разрушенных конструкций, обжигая руки о куски топлива и графита, за которые
нечаянно хватался в темноте.
Он напрягал слух, пытаясь уловить малейший стон или шорох, но тщетно. Но все
равно искал, обдирая тело о торчащие крючья арматуры и острые сколы бетонных
блоков, протиснулся в триста четвертое помещение, но в нем никого не было...
«Валера дежурил в дальней стороне... Там был его пост...»
И Перевозченко пробрался по завалу туда, в дальний конец, и искал там. Но все
впустую.
— Валера-а! А-а! — кричал Перевозченко, вскинув руки к небу и потрясая
кулаками.— Валера-а, милый! — слезы бессилия и горя лились по загоревшим от
излучений до черноты, отекшим щекам. — Да что же это такое?! Ходемчук!
Откликнись!
Но в ответ лицо Перевозченко озаряли только отсветы огня, бушующего в ночном
небе над крышей машзала, и доносились пронзительные, похожие на отчаянные крики
израненных птиц, голоса пожарников. Там тоже шла борьба со смертью, и там люди
принимали в себя смерть.
Изнемогая от навалившейся ядерной усталости, Перевозченко полез по завалу
назад, пробрался, шатаясь, к лестнично-лифтовому блоку и стал подниматься
наверх, на тридцать шестую отметку, к центральному залу. Ведь там, в ядерном аду
и огне гибнут Кургуз и Генрих...
Он не знал, что некоторое время назад Анатолий Кургуз и Олег Генрих, чудом
уцелевшие после взрыва, сильно облученные и ошпаренные радиоактивным паром, сами
покинули гиблое место, спустились уже по условно чистой лестнице на десятую
отметку и отправлены в медсанчасть.
Перевозченко повторил путь стажеров Кудрявцева и Проскурякова, вошел сначала
в каморку операторов, их там не было, тогда он вошел в центральный зал и принял
на себя дополнительный ядерный удар гудящего огнем реактора.
Опытный физик, Перевозченко понял, что реактора больше нет, что он
превратился в гигантский ядерный вулкан, что водой его не загасить, ибо нижние
коммуникации оторваны от реактора взрывом, что Акимов, Топтунов и ребята в
машзале, запускающие питательные насосы, чтобы подавать в реактор воду, зря
гибнут. Ведь воду сюда не подашь... Надо выводить всех людей с блока. Это самое
правильное. Надо спасать людей...
Перевозченко спустился вниз, его непрерывно рвало, мутилось и мгновениями
отключалось сознание, он падал, но, приходя в себя, снова вставал и шел, шел...
Войдя в помещение блочного щита управления, он сказал Акимову:
— Реактор разрушен, Саша... Надо уводить людей с блока...
— Реактор цел! Мы подадим в него воду! — запальчиво возразил Акимов. — Мы все
правильно делали-Иди в медсанчасть, Валера, тебе плохо... Но ты перепутал,
уверяю тебя... Это не реактор, это горят строения, конструкции. Их потушат...
В то самое время, когда Перевозченко искал захороненного в завале Ходемчука,
Петр Паламарчук и дозиметрист Николай Горбаченко, с трудом преодолевая завалы и
разломы на двадцать четвертой отметке реакторного блока, проникли наконец в
киповское помещение, где в момент взрыва находился Владимир Шашенок. Паламарчук
и Горбаченко нашли товарища в разломе шестьсот четвертого помещения,
придавленного упавшей балкой, сильно обожженного паром и горячей водой. Потом, в
медсанчасти, выяснилось, что у него перелом позвоночника, сломаны ребра, а
сейчас... надо было спасать...
В момент, предшествующий взрыву, когда давление в контуре росло со скоростью
15 атмосфер в секунду, в этом помещении разорвало трубы и датчики, оттуда пошли
радиоактивные пар и перегретая вода, упало что-то сверху, и Шашенок потерял
сознание. Вся поверхность кожи получила глубокий тепловой и радиационный ожоги.
Ребята освободили товарища из-под завала. Паламарчук, стараясь не причинить ему
новых страданий, взвалил его на спину с помощью Горбаченко и, с трудом
пробираясь через завалы бетона и труб, вынес Шашенка на десятую отметку. Оттуда,
чередуясь с Горбаченко, по коридору деаэраторной этажерки, примерно четыреста
пятьдесят метров, — к здравпункту на АБК (административно-бытовой корпус)
первого блока. Здравпункт оказался заколоченным на гвоздь. Вызвали «скорую»
Через десять минут приехал фельдшер Саша Скачок, и Шашенка увезли в медсанчасть.
Потом приехал на своей «скорой» педиатр Белоконь и дежурил здесь до утра, пока
его самого не увезли в медсанчасть...
Паламарчук и Горбаченко, вынося товарища, тоже сильно облучились и вскоре
были отправлены в медсанчасть. Горбаченко до того успел еще обойти блок, заме
ряя гамма-фон, облазил машзал, сделал обход блока снаружи. Но все это было
фактически впустую. Имевшимся прибором со шкалой измерений всего на 3,6 рентгена
он не мог замерить те бешеные радиационные поля, которые были на самом деле. И
тем самым не смог должным образом предостеречь товарищей...
В 2 часа 30 минут ночи на БЩУ-4 пришел директор АЭС Виктор Петрович Брюханов.
Вид пудрено-серый, растерянный, почти невменяемый.
— Что произошло? — сдавленным голосом спросил он Акимова.
В помещении БЩУ-4 активность воздуха в это время составляла около трех-пяти
рентген в час, а в местах прострела от завала и того больше.
Акимов доложил, что, по его мнению, произошла тяжелая радиационная авария, но
реактор цел, пожар в машзале в стадии ликвидации, пожарные майора Телятникова
тушат пожар на кровле, что готовится в работу второй аварийный питательный насос
и скоро будет включен в работу. Лелеченко и его люди должны только подать
электропитание. Трансформатор отключился от блока по защите от коротких
замыканий...
— Вы говорите — тяжелая радиационная авария, но если реактор цел... Какая
активность сейчас на блоке?
— Имеющийся у Горбаченко радиометр показывает тысячу микрорентген в
секунду...
— Ну, это немного, — чуть спокойней прежнего сказал Брюханов.
— Я тоже так думаю, — возбужденно подтвердил Акимов.
— Могу я доложить в Москву, что реактор цел? — спросил Брюханов.
— Да, можете, — уверенно ответил Акимов. Брюханов ушел на АБК-1 в свой
кабинет и оттуда в 3 часа ночи позвонил домой заведующему сектором атомной
энергетики ЦК КПСС Владимиру Васильевичу Марьину...
К этому времени на аварийный блок прибыл начальник штаба гражданской обороны
атомной станции С. С. Воробьев. У него был радиометр со шкалой измерений на 250
рентген. Это уже было кое-что. Пройдя по деаэраторной этажерке в машзал, к
завалу, понял, что положение крайне тяжелое. На шкале 250 рентген радиометр
показывал зашкал в разных местах блока и завала.
Воробьев доложил обстановку Брюханову.
— У тебя неисправный прибор,— сказал Брюханов.— Таких полей быть не может. Ты
понимаешь, что это такое? Разберись-ка со своим прибором или выбрось его на
свалку...
— Прибор исправный, — сказал Воробьев.
В 4 часа 30 минут утра на БЩУ прибыл главный инженер Фомин. Его долго
разыскивали. Дома почему-то трубку не брал, жена бормотала что-то невнятное.
Кто-то сказал, что он, быть может, на рыбалке. Потому и не подходил к телефону.
Что-то знали люди...
— Доложите обстановку!
Акимов доложил. Подробно остановился на последовательности технологических
операций до взрыва.
— Мы все делали правильно, Николай Максимович. Претензий к персоналу смены не
имею. К моменту нажатия кнопки «АЗ» пятого рода оперативный запас реактивности
составлял 18 стержней СУЗ (системы управления защитой). Разрушения произвел
взрыв 110-кубового бака аварийной воды СУЗ в центральном зале, на отметке плюс
71 метр...
— Реактор цел? — спросил Фомин красивым баском.
_ Реактор цел! — твердо ответил Акимов,
— Непрерывно подавайте в аппарат воду!
— Сейчас в работе аварийный питательный насос из деаэраторов на реактор.
Фомин удалился. Внутренне он то весь метался как затравленный зверь, то
проваливался в бездонную пропасть, мысленно панически вскрикивая: «Конец!
Конец!» То обретал вдруг железную уверенность: «Выстоим!»
Но он не выстоял. Этот человек сломался первым под чудовищной тяжестью
ответственности, которая только сейчас обрела свою свинцовую тяжесть и
расплющивала все его слабое, в сущности, державшееся на гордыне и тщеславии
существо...
Приказав в два часа ночи Акимову подавать воду в реактор, заместитель
главного инженера по эксплуатации Анатолий Дятлов покинул блочный щит управления
и вышел в сопровождении дозиметриста наружу, спустившись по лестнично-лифтовому
блоку. Весь асфальт вокруг был усыпан блоками реакторного графита, кусками
конструкций, топлива. Воздух был густой и пульсирующий. Так ощущалась
ионизированная высокорадиоактивная плазма.
— Активность? — спросил Дятлов дозиметриста.
— Зашкал, Анатолий Степанович... Кха-кха! Ч-черт! Сушит глотку... На тысяче
микрорентген в секунду — зашкал...
— Японские караси!.. Приборов у вас ни хрена нет! В бирюльки играете!..
— Да кто думал, что будут такие поля?! — вдруг возмутился дозиметрист. — В
каптерке есть один радиометр со шкалой на десять тысяч рентген, да закрыта. А
ключ у Красножона. Да только каптерка та, я смотрел, не подобраться. Завалило
ее. И светит, дай бог. Без прибора чувствую...
— Индюки! Японские караси! Прибор в каптерке держат! Оболдуи! Носом измеряй!
— Да я и так уж измеряю, Анатолий Степанович... — сказал дозиметрист.
— Если бы только ты... Я ведь тоже измеряю, сукин ты сын! — кричал Дятлов. —
А ведь не должен. Это твоя работа... Усёк?!
Они подошли вплотную к завалу, ближе к ряду «Т» и блоку ВСРО (вспомогательных
систем реакторного отделения). Там завал возвышался горой, поднимаясь наклонно
от самой земли аж до сепараторных помещений...
— Е-мое! — воскликнул Дятлов. — Что натворили! Крышка!
Дозиметрист щелкал туда-сюда переключателем диапазонов, бормоча: «Зашкал...
Зашкал...»
— Выбрось ты его к едрене-фене!.. Японские караси... Пошли в обход вокруг
машзала...
Кругом на асфальте графит и куски топлива. В темноте не совсем различимо, но
при желании понять можно. То и дело спотыкаешься о графитовые блоки, футболишь
ногами. Реальная активность до пятнадцати тысяч рентген в час. Поэтому и зашкал
на радиометре у дозиметриста.
В сознание не идет, не укладывается увиденное. Обогнули торец машзала. Вдоль
бетонной стенки напорного бассейна — девятнадцать пожарных машин. Слышен клекот
и рев огня на кровле машзала. Пламя высокое. Выше венттрубы.
Но странное дело! В сознании у заместителя главного инженера по эксплуатации
четвертого энергоблока
возникло и жило теперь как бы два образа, две мысли. Одна: «Реактор цел.
Подавать воду». Вторая: «Графит на земле, топливо на земле. Откуда,
спрашивается? Непонятно откуда. Активность бешеная. Нутром чую активность».
— Все! — приказал Дятлов. — Откатываемся! Они вернулись на БЩУ-4. Горбаченко
прошел к себе, на щит дозиметрии. Должен вот-вот подойти замначальника службы РБ
(радиационной безопасности) Красно-жон.
Общая экспозиционная доза, ими полученная, составила 400 рад. К пяти утра
началась рвота. Очень плохое самочувствие. Смертельная слабость. Головная боль.
Буро-коричневый цвет лица. Ядерный загар.
Горбаченко и Дятлов своим ходом ушли на АБК-1 и далее «скорой» — в
медсанчасть...
Свидетельство жены заведующего сектором атомной энергетики ЦК КПСС Альфы
Федоровны Мартыновой:
«26 апреля 1986 года в 3 часа ночи раздался у нас дома междугородный
телефонный звонок. Из Чернобыля звонил Марьину Брюханов. Закончив разговор,
Марьин сказал мне:
— На Чернобыле страшная авария! Но реактор цел...
Он быстро оделся и вызвал машину. Перед уходом позвонил высшему руководству
ЦК партии по инстанции. Прежде всего Фролышеву. Тот — Долгих. Долгих — Горбачеву
и членам Политбюро. После чего уехал в ЦК. В восемь утра позвонил домой и
попросил меня собрать его в дорогу: мыло, зубной порошок, щетку, полотенце и т.
д.»
В 4 часа 00 минут утра 26 апреля 1986 года Брюханову из Москвы последовал
приказ:
«Организуйте непрерывное охлаждение атомного реактора».
На щите дозиметрии второй очереди Николая Горбаченко сменил заместитель
начальника службы РБ (радиационной безопасности) АЭС Красножон. На вопросы
операторов, сколько работать, отвечал стереотипно:
— На диапазоне 1000 микрорентген в секунду — зашкал. Работать пять часов из
расчета набора двадцати пяти бэр.
(Это говорит о том, что замначальника службы РБ также не смог определить
подлинную интенсивность радиации.)
Акимов и Топтунов тоже по нескольку раз бегали наверх к реактору посмотреть,
как действует подача воды от второго аварийного питательного насоса. Но
огонь все гудел и гудел.
Акимов и Топтунов уже были буро-коричневыми от ядерного загара, уже рвота
выворачивала нутро, уже в медсанчасти Дятлов, Давлетбаев, люди из машинного
зала, уже на подмену Акимову прислали начальника смены блока Владимира
Алексеевича Бабичева, но Акимов и Топтунов не уходили. Можно только склонить
голову перед их мужеством и бесстрашием. Ведь они обрекали себя на верную
смерть. И тем не менее все их нынешние действия вытекали из ложной
первоначальной посылки: «Реактор цел!» Никак не хотели поверить они, что реактор
разрушен, что вода в него не попадает, а, захватывая с собой ядерную труху,
сливается на минусовые отметки, заливая кабельные трассы и высоковольтные
распредустройства и тем самым создавая угрозу обесточивания трем другим
работающим энергоблокам.
«Что-то мешает воде попадать в реактор... — думал Акимов. — Где-то на линии
трубопроводов закрыты задвижки...»
Они проникли с Топтуновым в помещение питательного узла на двадцать четвертой
отметке реакторного отделения. Помещение было полуразрушено взрывом. В дальнем
конце пролом, видно небо, пол залит водой с ядерным топливом, активность до пяти
тысяч рентген в час. Сколько может жить и работать человек в таких радиационных
полях? Бесспорно, что недолго. Но здесь было сверхдопинговое состояние,
необычайная внутренняя собранность, мобилизация всех сил организма от
запоздалого сознания вины, ответственности и долга перед людьми. И силы
откуда-то брались сами собой. Они должны уже были умереть, но они работали...
А воздух здесь, как и везде вокруг и внутри четвертого энергоблока, был
плотным и пульсирующим, радиоактивным ионизированным газом, насыщенным всем
спектром долгоживущих радионуклидов, которые извергал из себя разрушенный
реактор.
Они вручную с большим трудом приоткрыли регулирующие клапаны на двух нитках
питательного трубопровода, а затем поднялись через завалы на двадцать седьмую
отметку и в небольшом трубопроводном помещении, в котором было почти по колено
воды с топливом, подорвали (приоткрыли) по две задвижки трехсотки. По ходу было
еще по одной задвижке на правой и левой нитках трубопровода, но открыть их сил
уже не хватило ни у Акимова и Топтунова, ни у помогавших им Нехаева, Орлова,
Ускова...
Предварительно оценивая ситуацию и действия эксплуатационного персонала после
взрыва, можно сказать, что безусловный героизм и самоотверженность проявили
турбинисты в машинном зале, пожарники на кровле и электрики во главе с
заместителем начальника электроцеха Александром Григорьевичем Лелеченко.
Эти люди предотвратили развитие катастрофы в машинном зале, как внутри, так и
снаружи, и спасли таким образом всю станцию.
Александр Григорьевич Лелеченко, оберегая молодых электриков от излишних
хождений в зону высокой радиации, сам трижды ходил в электролизерную, чтобы
отключить подачу водорода к аварийным генераторам. Если учесть, что
электролизерная находилась рядом с завалом, всюду обломки топлива и реакторного
графита, активность которых достигала от пяти до пятнадцати тысяч рентген в час,
можно представить, насколько высоконравственным и героическим был этот 50-летний
человек, сознательно прикрывший собою молодые жизни. А потом по колено в
высокоактивной воде изучал состояние распредустройств, пытаясь подать напряжение
на питательные насосы...
Общая экспозиционная доза, им полученная, составила 2500 рад. Этого хватило
бы на пять смертей.
Но получив в Припятской медсанчасти первую помощь (ему влили в вену
физраствор), Лелеченко сбежал на блок и работал там еще несколько часов...
Умер он страшной, мученической смертью в Киеве.
Бесспорен героизм начальника смены реакторного цеха Валерия Перевозченко,
наладчика Петра Пала-марчука и дозиметриста Николая Горбаченко, бросившихся
спасать своих товарищей.
Что же касается действий Акимова, Дятлова и Топтунова и помогавших им, то их
работа, полная самоотверженности и бесстрашия, тем не менее была направлена на
усугубление аварийной ситуации. Ложная модель, оценка происходящего; «Реактор
цел, его нужно охлаждать, подавать воду. Разрушения произошли от взрыва бака СУЗ
в центральном зале», — с одной стороны, несколько успокоили Брюханова и Фомина,
которые доложили модель ситуации в Москву и тут же получили ответный приказ:
«Непрерывно подавать воду в реактор! Охлаждать». С другой стороны... Временно
такой приказ как бы облегчал душу и вроде бы вносил ясность в ситуацию:
подавайте воду, и все будет хорошо...
Это и определило весь характер действий Акимова, Топтунова, Дятлова, Нехаева,
Орлова, Ускова и других, которые сделали все, чтобы включить в работу аварийный
питательный насос и подать воду в воображаемый «целый и невредимый» реактор.
Эта же мысль позволила не сойти с ума Брюханову и Фомину, ведь она давала
надежду...
Но запас воды в деаэраторных баках истощался (всего 480 кубометров). Правда,
туда переключили подпитку с химводоочистки, из других запасных баков, тем самым
оставив без возможности восполнения утечек дебалансных вод три других работающих
энергоблока. Там, особенно на соседнем третьем блоке, сложилась крайне тяжелая
ситуация, грозившая потерей охлаждения активной зоны.
Тут нужно отдать должное начальнику смены блока № 3 Юрию Эдуардовичу
Багдасарову, у которого на БЩУ в момент аварии на соседнем блоке оказались и
респираторы «лепесток», и таблетки йодистого калия. Как только ухудшилась
радиационная обстановка, он всем подчиненным приказал надеть респираторы и
принять таблетки йодистого калия.
Когда он понял, что всю воду из баков чистого конденсата и с химводоочистки
переключили на аварийный блок, тут же доложил в бункер Фомину, что остановит
реактор. Фомин запретил. К утру Багдасаров сам остановил третий блок и перевел
реактор в режим расхолаживания, подпитывая контур циркуляции водой из
бассейна-барбатера. Действовал мужественно и в высшей степени профессионально,
предотвратив расплавление активной зоны третьего реактора в свою смену...
Тем временем в бункере АБК-1 (бомбоубежище) Брюханов и Фомин непрерывно
сидели на телефонах. Брюханов держал связь с Москвой, Фомин — с блочным щитом
управления 4-го энергоблока.
В Москву: в ЦК КПСС Марьину, министру Майорцу, начальнику Союзатомэнерго
Веретенникову. В Киев: министру энергетики Украины Склярову, секретарю обкома
Ревенко — тысячи раз повторялась одна и та же модель ситуации:
«Реактор цел. Подаем воду в аппарат. Взорвался бак аварийной воды СУЗ в
центральном зале. Взрывом снесло шатер. Радиационная обстановка в пределах
нормы. Погиб один человек — Валерий Ходемчук. У Владимира Шашенка —
стопроцентный ожог. В тяжелом состоянии».
«Радиационная обстановка в пределах нормы...» Подумать только. Конечно, у
него были приборы с диапазоном измерений всего на тысячу микрорентген в секунду
(это 3,6 рентгена в час). Но кто мешал Брюханову иметь достаточное количество
приборов с большим диапазоном измерений? Почему необходимые приборы оказались
запертыми в каптерку, а имевшиеся у дозиметристов — неисправными? Почему
Брюханов пренебрег докладом начальника штаба гражданской обороны АЭС С. С.
Воробьева и не передал в Москву и Киев его данные о радиационной обстановке?
Здесь, конечно, были и трусость, и боязнь ответственности, и, в силу
некомпетентности, — неверие в возможность такой страшной катастрофы. Да, для
него происшедшее было уму непостижимым. Но это лишь объясняет, а не оправдывает
его действия.
Из Москвы Брюханову было передано, что организована Правительственная
комиссия, первая группа специалистов вылетит в девять утра.
«Держитесь! Охлаждайте реактор!»
Фомин порою терял самообладание. То впадал в ступор, то начинал голосить,
плакать, бить кулаками и лбом о стол, то развивал бурную, лихорадочную
деятельность. Красивый звучный баритон его был насыщен предельным напряжением.
Он давил на Акимова и Дятлова, требуя непрерывной подачи воды в реактор, бросал
на 4-й блок все новых и новых людей взамен выбывающих из строя...
Когда Дятлова отправили в медсанчасть, Фомин вызвал из дома заместителя
главного инженера по эксплуатации 1-й очереди Анатолия Андреевича Ситникова и
сказал:
— Ты опытный физик. Определи, в каком состоянии реактор. Ты будешь как бы
человек со стороны, не заинтересованный во вранье. Прошу тебя. Лучше взобраться
на крышу блока «В» и заглянуть сверху в центральный зал. А?..
Ситников пошел навстречу смерти. Он облазил весь реакторный блок, заходил в
центральный зал. Уже здесь он понял, что реактор разрушен Но он посчитал это
недостаточным. Поднялся на крышу блока «В» (спецхимии) и оттуда посмотрел на
реактор с высоты птичьего полета. Картина невообразимого разрушения открылась
его взору. Взрывом оторвало монолитный шатер центрального зала, и жалкие остатки
прогнувшихся бетонных стен с торчащими во все стороны бесформенными щупальцами
арматуры напоминали гигантскую актинию, притаившуюся в ожидании, когда очередная
живая душа приблизится к ней, а то и окунется в ее адское ядерное чрево.
Ситников отогнал от себя навязчивый образ и, ощущая, как жаркие радиоактивные
щупальца лижут ему лицо, руки, обжигая мозг и саму душу, садня нутро, стал
пристально разглядывать то, что осталось от центрального зала. Реактор явно
взорвался. Плита верхней биозащиты с торчащими в разные стороны обрывками
трубопроводных коммуникаций, пакетов импульсных линий, похоже, была подброшена
взрывом и, рухнув назад, наклонно улеглась на шахту реактора. Из раскаленных
проемов справа и слева гудел огонь, несло нестерпимым жаром и смрадом. Всего
Ситникова, особенно его голову, напрямую обстреливало нейтронами и гамма-лучами.
Он дышал густым радионуклидным газом, все более ощущая нестерпимое жжение в
груди, будто внутри него кто-то разводил костер. Огонь все разгорался,
разгорался...
Он схватил не менее полутора тысяч рентген на голову. Облучением поражена
была центральная нервная система. В Московской клинике у него не привился
костный мозг и, несмотря на все принятые меры, он погиб...
В десять утра Ситников доложил Фомину и Брюханову, что реактор, по его
мнению, разрушен. Но доклад Анатолия Андреевича Ситникова вызвал только
раздражение и к сведению принят не был. Подача воды в «реактор» продолжалась...
Как я уже говорил раньше, первыми приняли на себя удар ядерной стихии внутри
энергоблока операторы центрального зала Кургуз и Генрих, оператор главных
циркнасосов Валерий Ходемчук, наладчик Владимир Шашенок, заместитель начальника
турбинного цеха Разим Давлетбаев, машинисты турбины — Бражник, Тор-мозин,
Перчук, Новик, Вершинин...
А снаружи энергоблока первыми бесстрашно включились в борьбу с огнем пожарные
майора Телятникова.
Пожарный Иван Михайлович Шаврей в момент взрыва был дневальным в пождепо
промплощадки, в пятистах метрах от аварийного энергоблока. После взрыва сразу по
тревоге выехал к блоку караул ВПЧ-2 лейтенанта Владимира Правика. Он нес
пожарную охрану атомной станции. Почти в то же время из Припяти выехал караул
СВПЧ-6 лейтенанта Виктора Кибенка, который нес пожарную охрану города.
Командир пожарной части Леонид Петрович Телятников был в отпуске и должен был
выйти на работу через день. Они как раз с братом справляли его день рождения,
когда позвонили из пождепо промплощадки:
— Пожар в машинном зале! — взволнованно доложил дежурный. — Сработала
сигнализация, подведенная от АЭС. Горит кровля. Выслан караул лейтенанта
Правика. На помощь попросили из Припяти караул лейтенанта Кибенка!
— Молодцы! — одобрил Телятников. — Пришлите машину. Сейчас приеду.
Машина довезла быстро. Увидев пожар, Телятников сразу понял, что наличных
людей мало и надо просить помощи отовсюду. Приказал лейтенанту Правику передать
тревогу по области. Правик по рации передал вызов № 3, по которому все пожарные
машины Киевской области должны следовать к атомной станции, где бы они ни
находились.
Шаврей и Петровский установили свои машины по ряду «Б» и поднялись по
механической лестнице на крышу машзала. Там бушевал огненно-дымный шквал.
Навстречу им уже шли ребята из СВПЧ-6 с плохим самочувствием. Помогли им
добраться до механической лестницы, а сами бросились к огню...
В. А. Прищепа развернул свою машину (пожарный расчет) у ряда «А», подключился
к гидранту, и его расчет по пожарной лестнице полез на крышу машзала. Когда
влезли — увидели: в ряде мест перекрытие крыши нарушено. Некоторые панели упали
вниз, другие сильно шатались. Прищепа спустился вниз, чтобы предупредить об этом
товарищей. Увидел майора Телятникова. Доложил ему. Тот сказал:
— Выставить боевой пост дежурства и не покидать до победы.
Так и сделали. С Шавреем и Петровским Прищепа пробыл на крыше машзала до пяти
утра. Потом им стало плохо. Вернее, плохо стало почти сразу, но терпели, думали,
что от дыма и жары. А к пяти утра стало уж совсем плохо, смертельно плохо. Тогда
спустились. Но огонь уже был погашен...
Через пять минут после взрыва на месте аварии был и расчет Андрея
Полковникова. Развернул машину, подготовил к тушению. На крышу поднимался два
раза, передавал приказ Телятникова, как действовать.
Правик прибыл к месту катастрофы первым, поэтому весь его караул был брошен
на тушение кровли машзала. Караул Кибенка, прибывшего несколько позже, бросили
на реакторное отделение. Там пламя бушевало на разных отметках. В пяти местах
горело в центральном зале. На борьбу с этим огнем и бросились Кибенок, Ва-щук,
Игнатенко, Титенок и Тищура. Это была борьба с огнем в ядерном аду. Когда
погасили очаги в сепараторных помещениях и в реакторном зале, остался один,
последний и самый главный очаг — реактор. Вначале не разобрались, стали гасить
из брандспойтов гудящую огнем активную зону. Но вода против ядерной стихии была
бессильна. Нейтроны и гамма-лучи водой не загасишь...
Пока не было Телятникова, лейтенант Правик взял на себя общее руководство
ликвидацией огня. Сам пошел и разведал все до мелочей. Неоднократно подходил к
реактору, взбирался на крышу блока «В», чтобы увидеть оттуда всю картину и верно
определить тактику борьбы с огнем. Когда появился Леонид Телятников, Правик стал
его правой рукой, первым помощником.
Надо было остановить огонь на решающих направлениях. Одно отделение
Телятников бросил на защиту машзала, два других сдерживали продвижение
клокочущего огня к соседнему третьему энергоблоку, а также ликвидировали пожар в
центральном зале.
Выслушав доклад Правика, Телятников и сам несколько раз поднимался на 71-ю
отметку, чтобы лучше рассмотреть направление движение огня. Ведь обстановка
менялась каждую минуту.
Лава горящего битума, тяжелый ядовитый дым снижали видимость. Затрудняли
дыхание. Работали под угрозой неожиданных выбросов пламени, внезапных обрушений.
Всего в реакторном отделении и на кровле машзала загасили тридцать семь очагов
огня.
Нестерпимо жег жар, но пожарные смело шли в это пекло. Дым ел глаза, на
сапоги налипал расплавленный битум, каски осыпало черным радиоактивным пеплом
графита и керамзита.
Леонид Шаврей из подразделения Правика стоял на посту на крыше блока «В»,
следя за тем, чтобы огонь не перекинулся дальше. Было страшно жарко. И снаружи,
и внутри. О радиации никто пока не подозревал. Пожар как пожар, ничего
сверхъестественного не замечали. Шаврей даже снял каску. Душно, давит грудь,
душит кашель. Но вот один за другим стали выходить из строя люди. Тошнота,
рвота, помутнение сознания. Где-то в половине четвертого ночи Телятников
спустился на блочный щит управления к Акимову. Доложил обстановку на кровле.
Сказал, что ребятам что-то дурно становится. Не радиация ли? Попросил
дозиметриста. Пришел Горбаченко. Сказал, что радиационная ситуация сложная.
Послал в помощь Телятникову своего помощника Пшеничникова.
Пошли через лестнично-лифтовой блок, наверху которого была дверь па крышу. Но
дверь оказалась запертой. Выломать не смогли. Спустились на нулевую отметку и
прошли через улицу. Шли по графиту и топливу. Телятников был уже плох:
буро-коричневый цвет лица, тошнота, рвота, головная боль. Но он думал, что
отравился дымом и перегрелся на пожаре. И все же... Хотелось убедиться поточнее.
У Пшеничникова был радиометр на тысячу микрорентген в секунду. Везде, внизу и
на крыше, он зашкаливал, но истинной радиационной обстановки дозиметрист
определить не мог. Его радиометр показывал всего три и шесть десятых рентгена в
час. На самом же деле на кровле было в разных местах от двух до пятнадцати тысяч
рентген в час. Ведь кровля загорелась от упавших на нее раскаленных графита и
топлива. Смешавшись с расплавленным битумом, все это превратилось в
высокоактивное месиво, по которому ходили пожарники.
Внизу, на земле, как я уже говорил, было не лучше Не только графит и обломки
топлива, но и ядерная пыль. выпавшая из облака взрыва, покрыла все ядовитым
налетом.
Водитель В. В. Булава рассказывает:
«Получил команду пробиться к расположению лейтенанта Хмеля. Приехал. Поставил
машину на водоем. включил подачу воды. Машина-то у меня только из ремонта, вся
новехонькая, пахнет свежей краской. Скаты на колесах тоже новые. Только при
подъезде к блоку слышу, стучит что-то о правое переднее колесо. Выскочил
посмотреть. Так оно и есть — арматурина проткнула шину, торчит из колеса и
цепляет за крыло... Такая обида, прямо до слез. Только из ремонта, такая жалость
по пока ставил машину на водоем, некогда было. А потом включил насосы, сел в
кабину, а эта железяка никак из головы не идет. Прямо сижу и вижу, как она в
живую шину воткнулась и торжествует себе. Нет, думаю, не потерплю я такого.
Вылез из машины и выдернул ее чертяку. Не поддавалась. Повозиться пришлось... А
в итоге с глубокими радиационными ожогами рук попал в московскую клинику... Знал
бы, рукавицы надел... Такие дела...»
Первыми вышли из строя пожарные Кибенка вместе со своим командиром. В первой
группе пострадавших был и лейтенант Правик...
К пяти утра пожар погасили. Но победа далась дорогой ценой. Семнадцать
пожарных, среди них Кибенок, Правик, Телятников, — были отправлены в
медсанчасть, а вечером того же дня — в Москву...
Всего из Чернобыля и других районов Киевской области на помощь к месту аварии
прибыло пятьдесят пожарных машин. Но основная работа была уже выполнена...
В ту роковую и героическую ночь на «Скорой помощи» Припятской медсанчасти
дежурил врач-педиатр Валентин Белоконь. Работали двумя бригадами с фельдшером
Александром Скачком. Белоконь был у больного, когда поступил вызов с атомной
станции. По вызову выехал фельдшер Скачок.
В 1 час 42 минуты Скачок позвонил с АЭС и сказал, что на станции пожар, есть
обожженные, нужен врач. Белоконь выехал с шофером Гумаровым. Взяли еще две
резервных машины. По дороге навстречу им проскочила машина Скачка с включенной
мигалкой. Как потом выяснилось, Скачок вез Володю Шашенка.
На АБК-1 дверь здравпункта оказалась забитой на гвоздь. Взломали. Несколько
раз Белоконь подъезжал к третьему и четвертому блокам. Ходил по графиту и
топливу. С крыши сползали в очень плохом состоянии Титенок, Игнатенко, Тищура,
Ващук. Оказывал первую помощь — в основном успокаивающие уколы — и отправлял в
медсанчасть. Последними из огня вышли Правик, Кибенок, Телятников. К шести утра
Белоконь тоже почувствовал себя плохо и был доставлен в медсанчасть.
Первое, что бросилось в глаза, когда увидел пожарных, — их страшное
возбуждение, на пределе нервов. Такое не наблюдал раньше. Потому и
успокаивающее колол им. А это, как выяснилось потом, было ядерное бешенство
нервной системы, ложный сверхтонус, который сменился затем глубокой
депрессией...
Свидетельствует Геннадий Александрович Шашарин — бывший заместитель
министра энергетики и электрификации СССР:
«Я находился в момент взрыва в Ялте, в санатории. Отдыхали вместе с женой. В
3 часа ночи 26 апреля 1986 года раздался телефонный звонок прямо в номере.
Звонили из Ялтинского КГБ, сказали, что на Чернобыльской АЭС серьезное ЧП, что я
назначен председателем Правительственной комиссии и что мне срочно надлежит
вылететь в Припять на место аварии.
Я быстро оделся, пошел к дежурному администратору и попросил соединить меня с
управляющим Крымэнерго в Симферополе, а также с ВПО Союзатомэнерго в Москве.
Соединили с ВПО Союзатомэнерго. Г. А. Веретенников был уже на месте (около
четырех утра). Я его спросил:
— Аварийную защиту сбросили? Вода в реактор подается?
— Да, — ответил Веретенников.
Затем администратор санатория принесла мне телекс за подписью министра
Майорца. В телексе уже значилось, что председателем Правительственной комиссии
назначен зампред Совмина СССР Борис Евдокимович Щербина и что мне тоже быть в
Припяти 26 апреля. Вылетать немедленно.
Переговорил с управляющим Крымэнерго, попросил к семи утра машину и
забронировать место в самолёте на Киев. Говорил с Крымэнерго из Ялтинского КГБ,
там дежурный офицер соединил меня.
К семи утра пришла «Волга», и я уехал в Симферополь, проведя в отпуске всего
пять дней. В Симферополь прибыл в начале десятого. Вылет в Киев ожидался в 11
часов 00 минут, был запас времени, и я посетил обком партии. Там ничего толком
не знали. Высказали беспокойство относительно строительства АЭС в Крыму.
Прилетел в Киев около 13 часов. Там министр энергетики Украины Скляров сказал
мне, что с часу на час подлетит Майорец с командой, надо ждать...»
Свидетельствует Виктор Григорьевич Смагин — начальник смены блока № 4:
«Я должен был менять Александра Акимова в восемь утра 26 апреля 1986 года.
Спал ночью крепко, взрывов не слышал. Проснулся в семь утра и вышел на балкон
покурить. С четырнадцатого этажа у меня хорошо видна атомная станция. Посмотрел
в ту сторону и сразу понял, что центральный зал моего родного четвертого блока
разрушен. Над блоком огонь и дым. Понял, что дело дрянь. Бросился к телефону,
чтобы позвонить на БЩУ, но связь уже была отрублена КГБ, видимо, чтобы не
утекала информация. Собрался уходить. Приказал жене плотно закрыть окна и двери.
Детей из дому не выпускать. Самой тоже не выходить. Сидеть дома до моего
возвращения...
Побежал на улицу к стоянке автобуса. Но автобус не подходил. Вскоре подали
„Рафик", сказали, что отвезут не на АБК-2, как обычно, ко второй проходной, а на
АБК-1 к первому блоку.
Привезли к АБК-1. Там все уже было оцеплено милицией. Прапорщики не
пропускали. Тогда я показал свой круглосуточный пропуск руководящего
оперативного персонала, и меня неохотно, но пропустили.
Около АБК-1 встретил заместителей Брюханова В. И. Гундара и И. Н. Царенко,
которые направлялись в бункер. Они сказали мне:
— Иди, Витя, на БЩУ-4, смени Бабичева. Он менял Акимова в шесть утра,
наверное, уже схватил... Не забудь переодеться в „стекляшке" (так мы называли
конференц-зал)...
„Раз переодеваться здесь, — сообразил я, — значит, на АБК-2 радиация..."
Поднялся в „стекляшку". Там навалом одежда: комбинезоны, бахилы, „лепестки".
Пока переодевался, сквозь стекло видел генерала МВД (это был замминистра
внутренних дел Украинской ССР Г. В. Бердов), который проследовал в кабинет
Брюханова.
Я быстро переоделся, не зная еще, что с блока вернусь уже в медсанчасть с
сильным ядерным загаром и с дозой 280 рад. Но сейчас я торопился, надел костюм
ХБ, бахилы, чепец, „лепесток-200" и побежал по длинному коридору деаэраторной
этажерки (общая для всех четырех блоков) в сторону БЩУ-4. В районе помещения
вычислительной машины „Скала" — провал, лилась вода, парило. Заглянул в
помещение „Скалы". С потолка на шкафы с аппаратурой льется вода. Тогда еще не
знал, что вода сильно радиоактивная. В помещении никого. Юру Бадаева, видать,
уже увезли. Пошел дальше. Заглянул в помещение щита дозиметрии. Там уже
хозяйничал замначальника службы РБ (радиационной безопасности) Красножон.
Горбаченки не было. Стало быть. тоже увезли или где-нибудь ходит по блоку. Был в
помещении и начальник ночной смены дозиметристов Самойленко. Красножон и
Самойленко устроили перепалку. Я прислушался и понял, что ругаются из-за того,
что не могут определить радиационную обстановку. Самойленко давит на то, что
радиация огромная, а Красножон, что можно работать пять часов из расчета 25 бэр.
— Сколько работать, мужики? — спросил я, прервав их перепалку.
— Фон — 1000 микрорентген в секунду, то есть 3,6 рентгена в час. Работать
пять часов из расчета набора 25 бэр!
— Брехня все это, — резюмировал Самойленко. Красножон снова взбеленился.
— Что же у вас других радиометров нет? — спросил я.
— Есть в каптерке, но ее завалило взрывом, — сказал Красножон. — Начальство
не предвидело такой аварии...
„А вы что — не начальники?" — подумал я и пошел дальше.
Все стекла в коридоре деаэраторной этажерки были выбиты взрывом. Очень остро
пахло озоном. Организм ощущал сильную радиацию. А говорят, нет органов чувств
таких. Видать, все же что-то есть. В груди появилось неприятное ощущение:
самопроизвольное паническое чувство, но я контролировал себя и держал в руках.
Было уже светло, и в окно хорошо был виден завал. Весь асфальт вокруг усыпан
чем-то черным. Присмотрелся — так это же реакторный графит! Ничего себе! Понял,
что с реактором дело плохо. Но до сознания еще не доходила вся реальность
случившегося.
Вошел в помещение блочного щита управления. Там были Бабичев Владимир
Николаевич и заместитель главного инженера по науке Михаил Алексеевич Лютов. Он
сидел за столом начальника смены блока.
Я сказал Бабичеву, что пришел его менять. Было 7 часов 40 минут утра. Бабичев
сказал, что заступил на смену полтора часа назад и чувствует себя нормально. В
таких случаях прибывшая смена поступает под команду работающей вахты.
— Акимов и Топтунов еще на блоке, — сказал Бабичев, — открывают задвижки на
линии подачи питательной воды в реактор в 712-м помещении, на 27-й отметке. Им
помогают старший инженер-механик с первой очереди Нехаев, старший инженер по
эксплуатации реакторного цеха первой очереди Усков, замначальника реакторного
цеха первой очереди Орлов. Иди, Виктор, смени их. Они плохи...
Зам. главного инженера по науке Лютов сидел и, обхватив голову руками, тупо
повторял:
— Скажите мне, парни, температуру графита в реакторе... Скажите, и я вам все
объясню...
— О каком графите вы спрашиваете, Михаил Алексеевич? — удивился я. — Почти
весь графит на земле. Посмотрите.. На дворе уже светло. Я только что видел...
— Да ты что?! — испуганно и недоверчиво спросил Лютов. — В голове не
укладывается такое...
— Пойдемте посмотрим, — предложил я.
Мы вышли с ним в коридор деаэраторной этажерки и вошли в помещение резервного
пульта управления, оно ближе к завалу. Там тоже взрывом выбило стекла. Они
трещали и взвизгивали под ногами. Насыщенный долго-живущими радионуклидами
воздух был густым и жалящим. От завала напрямую обстреливало гамма-лучами с
интенсивностью до пятнадцати тысяч рентген в час. Но тогда я об этом не знал.
Жгло веки, горло, перехватывало дыхание. От лица шел внутренний жар, кожу
сушило, стягивало...
— Вот смотрите, — сказал я Лютову, — кругом черно от графита...
— Разве это графит? — не верил своим глазам Лютов.
— А что же это? — с возмущением воскликнул я, а сам в глубине души тоже не
хочу верить в то, что вижу. Но я уже понял, что из-за лжи зря гибнут люди, пора
сознаться себе во всем. Со злым упорством, разгоряченный радиацией, я продолжал
доказывать Лютову.
— Смотрите! Графитовые блоки. Ясно ведь различимо. Вон блок с „папой"
(выступом), а вон с „мамой" (с углублением). И дырки посредине для
технологического канала. Неужто не видите?
— Да вижу... Но графит ли это?.. — продолжал сомневаться Лютов.
Эта слепота людей меня всегда доводила до бешенства. Видеть только то, что
выгодно твоей шкуре! Да это ж погибель!
— А что же это?! — уже начал орать я на начальника.
— Сколько же его тут? — очухался наконец Лютов.
— Здесь не все... Если выбросило, то во все стороны. Но, видать, не все... Я
дома в семь утра, с балкона, видел огонь и дым из пола центрального зала...
Мы вернулись в помещение БЩУ. Здесь тоже здорово пахло радиоактивностью, и я
поймал себя на том, что словно впервые вижу родной БЩУ-4, его панели, приборы,
щиты, дисплеи. Все мертво. Стрелки показывающих приборов застыли на зашкале или
нуле. Молчала машина „ДРЭГ" системы „ Скала", выдававшая во время работы блока
непрерывную распечатку параметров. Все эти диаграммы и распечатки ждут теперь
своего часа. На них застыли кривые технологического процесса, цифры — немые
свидетели атомной трагедии. Скоро их вырежут, думал я, и как величайшую
драгоценность увезут в Москву для осмысливания происшедшего. Туда же уйдут
оперативные журналы с БЩУ и со всех рабочих мест. Потом все это назовут „мешок с
бумагами", а пока... Только двести одиннадцать круглых сельсинов-указателей
положения поглощающих стержней живо выделялись на общем мертвом фоне щитов,
освещенные изнутри аварийными лампами подсветки шкал. Стрелки сельсинов застыли
в положении 2,5 метра, не дойдя до низа 4,5 метров.
Я покинул БЩУ-4 и побежал по лестнично-лифтовому блоку вверх, на 27-ю
отметку, чтобы сменить Топтунова и Акимова в 712-м помещении. По дороге встретил
спускающегося вниз Толю Ситникова. Он был плох, темно-буро-коричневый от
ядерного загара, непрерывная рвота. Преодолевая слабость и рвоту, сказал:
— Я все посмотрел... По заданию Фомина и Брюханова... Они уверены, что
реактор цел... Я был в центральном зале, на крыше блока „В". Там много графита и
топлива... Я заглянул сверху в реактор... По-моему, он разрушен... Гудит
огнем... Не хочется в это верить... Но надо...
Это его „по-моему" выдавало мучительное чувство, которое испытывал Ситников,
И он, физик, не хотел до конца верить, не верил глазам своим, настолько то, что
он увидел, было страшно...
Всю историю развития атомной энергетики „этого" боялись больше всего. И
скрывали эту боязнь. И „это" произошло...
Ситников, шатаясь, пошел вниз, а я побежал наверх. Комингс (порог) у двери в
712-м помещении высокий, примерно 350 миллиметров. И все помещение заполнено
водой с топливом поверх комингса. Из помещения вышли Акимов и Топтунов —
отекшие, темно-буро-коричневые лица и руки (как оказалось при осмотре в
медсанчасти, такого же цвета остальные части тела. Одежда лучам не помеха).
Выражение лиц — подавленное. Страшно распухли губы, языки. Они с трудом
говорили... Тяжкие страдания, но и ощущение недоумения и вины одновременно
испытывали начальник смены блока Акимов и СИУР Леонид Топтунов.
— Ничего не пойму, — еле ворочая распухшим языком, сказал Акимов, — мы все
делали правильно... Почему же... Ой, плохо, Витя... Мы доходим... Открыли,
кажется, все задвижки по ходу... Проверь третью на каждой нитке...
Они спустились вниз, а я вошел в небольшое 712-е помещение, площадью примерно
восемь квадратных метров. В нем находился толстый трубопровод, который
раздваивался на два рукава или нитки, как говорят эксплуатационники, диаметром
200 миллиметров каждая. На этих рукавах было по три задвижки. Их-то и открывали
Топтунов и Акимов. По этому трубопроводу, как думал Акимов, вода от работающего
питательного насоса шла в реактор... На самом же деле в реактор вода не
попадала, а лилась в подаппаратное помещение и оттуда заливала кабельные
полуэтажи и распредустройства на минусовых отметках, усугубляя аварию...
Странно, но абсолютное большинство эксплуатационников, и я в том числе,
выдавали в эти несусветные часы желаемое за действительное.
„Реактор цел!" — эта лживая, но спасительная, облегчающая душу и сердце мысль
околдовывала многих здесь, в Припяти, Киеве, да и в Москве, из которой неслись
все более жесткие и настойчивые приказы:
— Подавать воду в реактор!
Эти приказы успокаивали, вселяли уверенность, динамизм, придавали сил там,
где им уже по всем биологическим законам не полагалось быть...
Трубопровод в 712-м помещении был полузатоплен. А от этой воды «светило»
около тысячи рентген в час. Все задвижки обесточены. Крутить надо вручную. А
вручную крутить долго — часы. Вот Акимов и Топтунов крутили их несколько часов,
добирая роковые дозы. Я проверил открытие задвижек. По две задвижки на левой и
правой нитках были открыты. Принялся за третьи по ходу. Но и они оказались
подорванными. Стал открывать дальше. Находился в помещении около двадцати минут
и схватил дозу 280 рад...
Спустился в помещение блочного щита управления, сменил Бабичева. Со мной на
БЩУ находились: старшие инженеры управления блоком Гашимов и Бреус, старший
инженер управления турбиной Саша Черанёв, его дублер Бакаев, начальник смены
реакторного цеха Сережа Камышный. Он теперь бегал везде по блоку, в основном по
деаэраторной этажерке, чтобы отсечь левые два деаэраторных бака, из которых вода
поступала на разрушенный питательный насос. Однако отсечь не удавалось. Задвижки
там диаметром шестьсот миллиметров, а после взрыва деаэраторная этажерка отошла
от монолита примерно на полметра, порвав штоковые проходки. Управлять задвижками
даже вручную стало невозможно. Пытались восстановить, надставить, но высокие
гамма-поля не позволили этого сделать. Люди «выходили из строя». Камышному
помогали старший машинист турбины Ковалев и слесарь Козленко...
К девяти утра остановился работающий аварийный питательный насос, и слава
богу. Перестали заливать низы. Кончилась вода в деаэраторах.
Я все время сидел на телефоне. Держал связь с Фоминым и Брюхановым. Они с
Москвой. В Москву уходил доклад: „Подаем воду в реактор!" Оттуда приходил
приказ: „Не прекращать подачу воды!" А вода-то и кончилась...
На БЩУ активность излучения до пяти рентген в час, а в местах прострела с
завала — и того больше. Но приборов-то не было. Точно не знали. Доложил Фомину,
что вода кончилась. Он в панику: „Подавать воду!" — кричит. А откуда я ее
возьму...
Фомин лихорадочно искал выход. Наконец придумал. Послал заместителя главного
инженера по новым блокам Леонида Константиновича Водолажко и начальника смены
блока Бабичева, у которого я принял смену, чтобы организовали подачу воды в баки
чистого конденсата (три емкости по 1000 кубометров каждая), а затем аварийными
насосами снова подавать в реактор. К счастью эта авантюра Фомина не увенчалась
успехом...
Около четырнадцати часов я покинул блочный щит управления четвертого
энергоблока. Самочувствие было уже очень плохое: рвота, головная боль,
головокружение, полуобморочное состояние. Помылся и переоделся в санпропускнике
второй очереди и пошел в лабораторно-бытовой корпус первой очереди, в
здравпункт. Там уже были врачи и сестры...»
Значительно позже, днем 26 апреля, новые пожарные расчеты, прибывшие в
Припять, будут откачивать воду с топливом из кабельных полуэтажей АЭС и
перекачивать ее в пруд-охладитель, в котором активность воды на всей площади в
двадцать два квадратных километра достигнет шестой степени кюри на литр, то есть
будет равна активности воды основного контура во время работы атомного
реактора...
Как уже говорилось, Фомин и Брюханов не поверили Ситникову, что реактор
разрушен. Не поверили они и начальнику штаба гражданской обороны атомной станции
Воробьеву, который предупреждал их о высоких радиационных полях, посоветовали
ему выбросить радиометр на помойку. Но где-то в глубине у Брюханова все же
мелькнула единственная трезвая мысль. Где-то в недрах души он принял к сведению
информацию Воробьева и Ситникова и на всякий случай запросил у Москвы добро на
эвакуацию города Припяти. Однако от Б. Е. Щербины, с которым его референт Л. П.
Драч связался по телефону (Щербина был в это время в Барнауле), поступил четкий
приказ:
— Панику не поднимать! До прибытия Правительственной комиссии эвакуацию не
производить!
Ядерная эйфория, трагизм, катастрофичность ситуации лишили Брюханова и Фомина
здравого рассудка. Каждый час Брюханов докладывал в Москву и Киев, что
радиационная обстановка в Припяти и вокруг АЭС в пределах нормы, что положение в
целом контролируется, в реактор подается охлаждающая вода...
Когда остановился питательный насос, Фомин развил бурную деятельность по
организации подачи воды от других источников.
Как уже свидетельствовал В. Г. Смагин, он послал заместителя главного
инженера по строящемуся пятому блоку Водолажко и не успевшего убыть в
медсанчасть начальника смены блока Бабичева обеспечить подачу и накопление
пожарной воды в трех тысячекубовых емкостях чистого конденсата, которые
смонтированы снаружи, рядом с блоком ВСРО (вспомогательных систем реакторного
отделения), вплотную к завалу, чтобы оттуда насосами аварийной подачи воды от
системы САОР снова качать воду в реактор, которого уже не существовало. Это
железное упорство, напоминающее маниакальные действия умалишенного, могло
принести лишь только больший вред: дополнительное затопление минусовых отметок и
переоблучение новых и новых людей. Ведь весь четвертый блок был обесточен,
распредустройства залиты водой, ни один механизм включить в работу было уже
нельзя, это было сопряжено с тяжелым переоблучением персонала. Кругом
радиационные поля от 800 рентген до 15 тысяч рентген в час. Хотя наличные
приборы могли измерять уровни активности до четырех рентген в час...
В медсанчасть уже доставили более ста человек. Пора было образумиться. Но нет
— безумие Брюханова и Фомина продолжалось:
«Реактор цел ! Лить воду в реактор!»
Ранним утром 26 апреля в Москве формировалась к вылету в Киев и далее в
Припять первая группа специалистов спецрейсом из аэропорта «Быково». Обзванивал
ночью по телефону и собирал людей главный инженер ВПО Союзатомэнерго Борис
Яковлевич Прушинский.
В Москве также готовилась к вылету вторая, более высокопоставленная группа —
представители ЦК и Правительства, старший помощник генерального прокурора СССР
Ю. Н. Шадрин, заместитель начальника Штаба гражданской обороны страны
генерал-полковник Б. П. Иванов, командующий химвойсками СССР генерал-полковник
В. К. Пикалов, министры, академики, маршалы... Эта группа должна была вылететь в
Киев спецрейсом в 11 часов утра 26 апреля 1986 года, но определенные трудности
сбора (ведь были выходные дни) задержали вылет до шестнадцати часов...
А тем временем город атомных энергетиков Припять просыпался. Почти все дети
пошли в школу...
Свидетельствует Людмила Александровна Харитонова — старший инженер
производственно-распорядительного отдела управления строительства Чернобыльской
АЭС:
«В субботу 26 апреля 1986 года все уже готовились к празднику 1-е Мая. Теплый
погожий день. Весна. Цветут сады. Мой муж, начальник участка вентиляции, после
работы собирался поехать с детьми на дачу. Я с утра постирала и развесила на
балконе белье. К вечеру на нем уже накопилась миллионы распадов...
Среди большинства строителей и монтажников никто еще ничего толком не знал.
Потом просочилось что-то об аварии и пожаре на четвертом энергоблоке. Но что
именно произошло, никто точно не знал...
Дети пошли в школу, малыши играли на улице в песочницах, катались на
велосипедах. У всех у них к вечеру 26 апреля в волосах и на одежде была уже
высокая активность, но тогда мы этого не знали. Недалеко от нас на улице
продавали вкусные пончики. Многие покупали. Обычный выходной день...
Рабочие-строители поехали на работу, но их вскоре вернули, часам к двенадцати
дня. Муж тоже ездил на работу. Вернувшись к обеду, сказал мне: „Авария, не
пускают. Оцепили всю станцию..."
Мы решили поехать на дачу, но нас за город не пропустили посты милиции.
Вернулись домой. Странно, но аварию мы еще воспринимали как нечто отдельное от
нашей частной жизни. Ведь аварии были и раньше, но они касались только самой
атомной станции...
После обеда начали мыть город. Но и это не привлекало внимания. Явление
обычное в жаркий летний день. Моечные машины летом не диво. Обычная мирная
обстановка. Я только обратила как-то вскользь внимание на белую пену у обочин,
но не придала этому значения. Подумала: сильный напор воды...
Группа соседских ребят ездила на велосипедах на путепровод (мост), оттуда
хорошо был виден аварийный блок, со стороны станции Янов. Это, как мы позже
узнали, было наиболее радиоактивное место в городе, потому что там прошло облако
ядерного выброса. Но это стало ясно потом, а тогда, утром 26 апреля, ребятам
было просто интересно смотреть, как горит реактор. У этих детей развилась потом
тяжелая лучевая болезнь.
После обеда наши дети вернулись из школы. Их там предупредили, чтоб не
выходили на улицу, чтобы делали влажную приборку дома. Тогда до сознания впервые
дошло, что серьезно.
Об аварии разные люди узнавали в разное время, но к вечеру 26 апреля знали
почти все, но все равно реакция была спокойная, так как все магазины, школы,
учреждения работали. Значит, думали мы, не так опасно.
Ближе к вечеру стало тревожнее. Эта тревога шла уже неизвестно откуда, то ли
изнутри души, то ли из воздуха, в котором стал сильно ощущаться металлический
запах. Какой-то он, даже не могу точно сказать. Но металлический...
Вечером загорелось сильнее. Сказали: горит графит... Люди издалека
видели пожар, но не обращали особого внимания.
— Горит что-то...
— Пожарники потушили...
— Все равно горит...»
А на промплощадке, в трехстах метрах от разрушенного энергоблока, в конторе
Гидроэлектромонтажа сторож Данила Терентьевич Мируженко дождался восьми утра и,
поскольку начальник управления на его звонки не отвечал, решил пойти за полтора
километра в управление строительства и доложить там начальнику стройки Кизиме
или диспетчеру о том, что видел ночью. Менять его утром никто не пришел. Никто
также не позвонил ему, что предпринять. Тогда он закрыл на замок контору и пошел
пешком в управление строительства. Чувствовал он себя уже очень плохо. Началась
рвота. В зеркало увидел, что сильно загорел за ночь без солнца. К тому же,
направляясь к управлению строительства, он некоторое время шел по следу ядерного
выброса.
Подошел к управлению, а там закрыто. Никого нет. Суббота все-таки.
Возле крыльца стоит какой-то незнакомый мужчина. Увидел Мируженко и
сказал:
— Иди, дед, скорей в медсанчасть. Ты совсем плохой. Мируженко кое-как
доковылял до медсанчасти...
Шофер начальника Управления Гидроэлектромонтаж Анатолий Викторович
Трапиковский, заядлый рыбак, рано утром 26 апреля на служебной машине спешил к
подводящему каналу, чтобы наловить мальков и двинуть далее на судака. Но обычным
путем ему проехать не удалось. Загородила милиция. Тогда он развернулся и с
другой стороны попытался проскочить на теплый канал — тоже милицейский кордон.
Тогда он по едва заметной стежке проехал лесом и выехал к каналу. Расположился
рыбачить. Рыбаки, сидевшие здесь с ночи, рассказали о взрывах. Думали, говорят,
что это сработали главные предохранительные клапаны. Такой звук выброса пара. А
потом произошел взрыв с сильным огнем и искрами. Огненный шар пошел в небо...
Постепенно и как-то незаметно рыбаки исчезли. Трапиковский еще некоторое
время порыбачил, но в душу стал пробираться страх, и он тоже собрался и уехал
домой...
Утром с ночной смены со строящегося 5-го энергоблока прошли два
рабочих-изолировщика, Алексей Дзюбак и его бригадир Запёклый. Они держали путь в
сторону конторы «Химзащита», расположенной в трехстах метрах от 4-го блока.
Топали по следу ядерного выброса, то есть по ядерной трухе, которая просыпалась
из радиоактивного облака. Активность «следа» на земле доходила до десяти тысяч
рентген в час. Общая экспозиционная доза, ими полученная, составила около
300 рад у каждого. Полгода провели в 6-й клинике Москвы...
Охранница (работник ВОХР) Клавдия Ивановна Лузганова, 50 лет от роду,
дежурила в ночь с 25 на 26 апреля на строящемся здании ХОЯТа (хранилище
отработавшего ядерного топлива) в двухстах метрах от аварийного блока. Получила
около шестисот рад. Умерла в 6-й клинике Москвы в конце июля 1986 года...
На пятый энергоблок утром 26 апреля выехала бригада рабочих-строителей. Туда
же, на пятый блок, приехал начальник Управления строительством Василий
Трофимович Кизима—бесстрашный, мужественный человек. Перед этим он на машине
объехал и осмотрел завал вокруг 4-го блока. Никаких дозиметров у него не было, и
он не знал, сколько получил. Рассказывал мне потом:
— Догадывался, конечно, уж очень сушило грудь, жгло глаза. Не зря ведь,
думаю, жжет. Наверняка Брюханов выплюнул радиацию... Осмотрел завал, поехал на
5-й блок. Рабочие ко мне с вопросами. Сколько работать? Какая активность?
Требуют льготы за вредность. Всех и меня тоже душит кашель. Протестует организм
против плутония, цезия и стронция. А тут еще йод-131 в щитовидку набился.
Душит. Респираторов ведь ни у кого нет. И таблеток йодистого калия тоже нет.
Звоню Брюханову. Справляюсь о ситуации. Брюханов ответил: «Изучаем обстановку».
Ближе к обеду снова позвонил ему. Он опять изучал обстановку. Я строитель, не
атомщик, и то понял, что товарищ Брюханов обстановкой не владеет... Как был
размазня, так и остался... В двенадцать часов дня я отпустил рабочих по домам.
Ждать дальнейших указаний руководства...
Свидетельствует председатель Припятского горисполкома Владимир Павлович
Волошко:
«В течение всего дня 26 апреля Брюханов вводил в неведение всех, заявляя, что
радиационная обстановка в городе Припяти нормальная. Внешне весь день 26 апреля
Брюханов был невменяемый. Какой-то на вид полоумный, потерявший себя. Фомин, так
тот вообще с перерывами между отдачей распоряжений плакал, скулил, куда делись
нахальство, злость, самоуверенность. Оба более-менее пришли в себя к вечеру. К
приезду Щербины. Будто тот мог привезти с собой спасение. К взрыву Брюханов шел
закономерно. Это и не мудрено. Сам Брюханов знал только турбину и подбирал себе
подобных турбинистов. Фомин — электриков. Представляешь, Брюханов каждый час
отправлял в Киев донесения о радиационной обстановке, и в них значилось, что
ситуация нормальная. Никакого тебе превышения фона». — Волошко с возмущением
добавил: — «Послали на полторы тыщи рентген Толю Ситникова, отличного физика. И
его же не послушали, когда он доложил, что реактор разрушен...
Из пяти с половиной тысяч человек эксплуатационного персонала — четыре тысячи
исчезли в первый же день в неизвестном направлении...»
В 9 часов 00 минут утра 26 апреля 1986 года на связь с Управлением
строительства Чернобыльской АЭС вышла дежурная Союзатомэнергостроя из Москвы
Лидия Всеволодовна Еремеева. В Припяти трубку поднял главный инженер стройки
Земсков. Еремеева попросила у него данные по стройке за сутки: укладка бетона,
монтаж металлоконструкций, средства механизации, число работающих на 5-м
блоке...
— Вы уж нас не беспокойте сегодня. У нас тут небольшая авария, — ответил В.
Земсков, только что добросовестно обошедший аварийный блок и сильно
облучившийся. Потом у него была рвота и медсанчасть...
В 9.00 утра 26 апреля из Московского аэропорта «Быково» вылетел спецрейсом
самолет Як-40.
На борту самолета находилась первая оперативная межведомственная группа
специалистов в составе главного инженера ВПО Союзатомэнерго Б. Я. Прушинского,
заместителя начальника того же объединения Е. И. Игнатенко, заместителя
начальника института Гидропроект В. С. Конвиза (генпроектант станции),
представителей НИКИЭТа (главного конструктора реактора РБМК) К. К. Подушкина и
Ю. Н. Черкашова, представителя Института атомной энергии имени И. В. Курчатова —
Е. П. Рязанцева и других.
Группу, как я уже говорил, собрал для вылета Б. Я. Прушинский, обзвонив
каждого по телефону.
В распоряжении вылетевшей группы была небогатая информация, переданная
Брюхановым:
— реактор цел, охлаждается водой, — что очень льстило Подушкину и Черкашову,
как представителям главного конструктора аппарата. Приятно это было знать и
Конвизу, как генпроектанту, ибо он применил этот «надежный» аппарат в проекте
атомной станции;
— радиационная обстановка в пределах нормы — это успокаивало всех и особенно
представителя Института атомной энергии имени И. В. Курчатова — Е. П. Рязанцева,
ибо активная зона, рассчитанная институтом, оказалась надежной, прочной и
управляемой, раз в столь критической ситуации реактор уцелел; -.
— всего два несчастных случая со смертельным исходом — для взрыва это не так
много;
— взорвался 110-кубовый бак аварийного охлаждения приводов СУЗ (системы
управления защитой), видимо, от взрыва гремучей смеси. Что ж, надо продумать
защиту бака на будущее...
В десять сорок пять утра 26 апреля аварийная оперативная группа специалистов
была уже в Киеве. Еще через два часа машины подкатили к зданию горкома
партии Припяти.
Необходимо было как можно быстрее ознакомиться с истинным положением дел,
чтобы к прилету членов Правительственной комиссии иметь достоверную инфор
мацию для доклада.
Прежде всего, надо проехать к аварийному блоку и посмотреть все своими
глазами. Еще лучше осмотреть блок с воздуха. Выяснилось, что поблизости есть
вертолет гражданской обороны, приземлившийся недалеко от путепровода, что возле
станции Янов. Какое-то время ушло на поиски бинокля и фотографа с фотоаппаратом.
Бинокль так и не нашли. Фотограф отыскался. Перед вылетом были уверены еще, что
реактор цел и охлаждается водой. Через час-полтора после приезда оперативной
группы вертолет Ми-6 поднялся в воздух. На борт поднялись фотограф, главный
инженер ВПО Союзатомэнерго Б. Я. Прушинский и представитель главного
конструктора реактора К. К. Полушкин. Дозиметр был только у пилота, что
позволило потом узнать поглощенную дозу радиации.
Подлетали со стороны бетоносмесительного узла и города Припяти. Перед и чуть
левее блока ВСРО. Высота 400 метров. Снизились до 250, чтобы лучше рассмотреть.
Картина удручающая. Сплошной развал, нет центрального зала. Блок неузнаваем...
Но по порядку.
— Зависните здесь, — попросил Прушинский.
На крыше блока ВСРО (вспомогательных систем реакторного отделения), вплотную
к стене блока «В» (спецхимии) видны навалы погнутых балок, светлых осколков
панелей стен и перекрытий, сверкавших на солнце нержавеющих труб, черных кусков
графита и покореженных, рыжих от коррозии топливных сборок. Особенно скученный
завал топлива и графита около квадратной венттрубы, выступавшей из крыши ВСРО и
вплотную примыкавшей к стене блока «В». Далее — завал из изуродованных
трубопроводов, битых армированных конструкций, оборудования, топлива и графита
поднимался наклонно от самой земли (захватив на земле поверхность по радиусу
около 100 метров), от бывшей стены помещения главных циркуляционных насосов по
ряду «Т», внутрь разрушенного помещения ТЦН, торцевая стена которого со стороны
видневшегося справа здания ХЖТО (хранилища жидких и твердых отходов) чудом
уцелела.
Именно здесь, под этим завалом, похоронен Валерий Ходемчук, именно здесь,
поглощая смертельную дозу радиации, начальник смены реакторного цеха Валерий
Иванович Перевозченко искал своего подчиненного, карабкаясь в темноте по
нагромождениям строительных конструкций и оборудования и пронзительно выкрикивая
пересохшим и стянутым радиацией горлом: «Валера! Откликнись! Я здесь!
Откликнись!..»
Всего этого Прушинский и Полушкин не знали в знать не могли. Но потрясенные,
понимая, что произошло не просто разрушение, а нечто гораздо большее и страшное,
впитывали до мельчайших деталей открывшуюся перед ними картину беды.
Кругом, на голубом от солнца асфальте и на крыше ХЖТО, видны густо-черные
куски графита и даже целые пакеты графитовых блоков. Графита очень много,
черно от графита...
Прушинский и Полушкин оторопело смотрели на всю эту невообразимую разруху.
То, что они видели сейчас въяве, представлялось, проигрывалось раньше только в
воображении. Но, конечно, много бледнее и проще и большей частью чисто
теоретически. Но, похоже, и сейчас действовала знаменитая формула Козьмы
Пруткова: «Не верь глазам своим!» И Прушинский с Полушкиным ловили себя на
том, что хочется не смотреть на все это, будто это совсем не их касается, а что
это дело каких-то других, чужих людей. Но это касалось их, их! И стыд, что
приходится видеть такое...
И они вначале как бы не видели всего, только сердце в груди сжималось до
боли, а глаза, хотя жадно смотрели на весь этот погром, но со стыдливостью как
бы отталкиваются от смрадной картины разрушения. Ох, и и не видеть бы всего
этого! Но надо! На-адо!..
Такое впечатление, что помещение главных циркуляционных насосов разрушено
взрывом изнутри. Но сколько же было взрывов?! В завале, что поднимался наклонно
от земли вплоть до пола бывшего сепараторного помещения, видны толстые длинные
трубы, похоже, коллекторы, один почти на земле по диагонали угла между стеной
ВСРО и стеной помещения ГЦН, второй — значительно выше. Примерно от отметки плюс
двенадцать до плюс двадцать четыре он опирался верхним концом о длинную трубу
опускного трубопровода. Стало быть, взрывом этот трубопровод выбросило из шахты
прочно-плотного бокса. Далее, на полу, если бесформенные нагромождения можно
назвать полом, па отметке плюс тридцать два — сдвинутые с опор 130-тонные
барабаны-сепараторы, весело поблескивавшие на солнце, восемь штук сильно
погнутых трубопроводов обвязки, навал
всякого хлама, свисавшие консолями куски бетонных панелей перекрытий и стен.
Стены же сепараторного помещения снесены, за исключением уцелевшего огрызка с
торца, со стороны центрального зала. Между этим огрызком стены и завалом —
зияющий чернотой прямоугольный провал. В нем ничего не торчало. Значит, это
проем в шахту прочно-плотного бокса или в помещение верхних коммуникаций
реактора. Похоже, что часть оборудования и трубопроводов «выдуло» взрывом
оттуда. То есть оттуда тоже был взрыв, поэтому там «чисто», ничего не торчит...
Думая так, Прушинский невольно вспомнил новенький после монтажа основной
контур — святая святых технологии. А теперь...
Со стороны примыкания центрального зала к деаэраторной этажерке — остаток
торцевой стены пониже. Торцевая стена реакторного зала по ряду «Т» уцелела
примерно до отметки плюс пятьдесят один (до основания аварийного бака СУЗ,
который располагался в этой стене с отметки плюс пятьдесят один до плюс
семьдесят). Именно в этом баке, по докладу Брюханова, произошел взрыв гремучей
смеси, разрушивший центральный зал. Ну, а как же тогда помещения главных
циркнасосов, барабанов-сепараторов, прочно-плотный бокс? Что разрушило их?..
Нет! Доклад Брюханова ошибочен, если не лжив...
А на земле вокруг завала — черные россыпи графитовой кладки реактора. Глаза
невольно снова и снова смотрят туда. Ведь раз графит на земле, значит...
Не хотелось сознаваться себе в простой и очевидной теперь мысли:
«Реактор разрушен...»
Ведь за этим признанием сразу встает огромная ответственность перед людьми.
Нет... Перед миллионами людей. Перед всей планетой Земля. И невообразимая
человеческая трагедия...
Поэтому лучше просто смотреть. Не думая, впитывать в себя этот кошмар
агонизирующего, смердящего радиацией атомного блока...
Стена блока «В» со стороны ВСРО в примыкании к помещению главных циркнасосов
торчала неровными сколами. На крыше блока «В» четко были видны куски графитовой
кладки реактора, квадратные блоки с дырками посредине. Тут ошибиться невозможно.
Совсем близко от крыши блока «В» до зависшего над ним вертолета. Каких-нибудь
полторы сотни метров. Солнце в зените. Четкое, контрастное освещение. Ни облачка
на небе. Ближе к торцевой стене блока «В» графит навален горой. Куски графита
равномерно разбросаны и на кровле центрального зала 3-го энергоблока, и на
кровле блока «В», из которой торчала белая с красными кольцевыми полосами
вентиляционная труба. Графит и топливо видны и на смотровых площадках венттрубы.
То-то, видать, «светят» во все стороны эти радиоактивные «фонари». А вот и крыша
деаэраторной этажерки, где только семь часов назад пожарники майора Телятникова
завершили борьбу с огнем...
Будто изнутри разворочена плоская крыша машинного зала, торчит искореженная
арматура, какие-то порванные металлические решетки, черные обгорелости.
Поблескивали на солнце застывшие ручейки битума, в котором ночью пожарные
увязали по колено. На уцелевших участках крыши длинные, беспорядочно
переплетенные друг с другом рукава и бухты пожарных шлангов.
У торцевой стены машзала, по углам вдоль рядов <А» и «Б» и вдоль напорного
бассейна, видны брошенные людьми и теперь сильно радиоактивные красные коробочки
пожарных машин — немые свидетели трагической борьбы хрупких людей с видимой и
невидимой атомной стихией.
Далее, справа, простирающееся в даль водохранилище пруда-охладителя, на
золотых песчаных берегах детскими сандаликами лежали лодки, катера, и впереди —
пустая гладь пока еще чистой воды...
От строящегося 5-го энергоблока кучками и поодиночке уходили не успевшие уйти
люди. Это рабочие, которых давно уже отпустил домой начальник стройки Кизима,
так и не добившийся от Брюханова правды. Все они пройдут по следу радиоактивного
выброса, все получат свою дозу и унесут на подошвах домой к детям страшную
грязь...
— Зависните прямо над реактором, — попросил пилота Прушинский. — Так! Стоп!
Снимайте!
Фотограф сделал несколько снимков. Открыв дверь, смотрели вниз. Вертолет
находился в восходящем потоке радиоактивного выброса. Все на вертолете без
респираторов. Радиометра нет. Внизу черный прямоугольник
бассейна выдержки отработавшего топлива. Воды в нем не видно...
«Топливо в бассейне расплавится...» — подумал Прушинский.
Реактор... Вот оно — круглое «око» реакторной шахты. Оно будто прищурено.
Огромное «веко» верхней биозащиты реактора развернуто и раскалено до
ярко-вишневого цвета. Из «прищура» вырывались пламя и дым. Казалось, будто зреет
и вот-вот лопнет гигантский ячмень...
— Десять бэр, — сказал пилот, глянув в окуляр оптического дозиметра. —
Сегодня еще не раз придется...
— Отход! — приказал Прушинский. Вертолет «сполз» с центрального зала и взял
курс на Припять.
— Да, ребятки, это конец... — задумчиво сказал представитель главного
конструктора аппарата Константин Полушкин.
После облета аварийного блока на вертолете взяли машину и приехали к
Брюханову в бункер. Внешне Брюханов и Фомин крайне удручены. Первые слова
Брюханова Прушинскому прозвучали трагически:
— Все... Блока нет... — голос подавленный.
А в ушах у Прушинского стоял еще ночной голос Брюханова, докладывавшего о ЧП:
«Взорвался бак аварийной воды СУЗ. Частично разрушен шатер центрального зала.
Реактор цел. Подаем воду...»
«Так цел или не цел реактор?» — задал себе вопрос Прушинский.
Они сели с Брюхановым в машину и еще раз объехали и осмотрели разрушенный
блок...
Свидетельствует Любовь Николаевна Акимова (жена Александра Акимова):
«Мой муж был очень симпатичный, общительный человек. Легко сходился с людьми,
но без фамильярности. Вообще жизнерадостный, обязательный человек. Активный
общественник. Был членом Припятского горкома. Очень любил своих сыновей.
Заботливый был. Увлекался охотой, особенно когда стал работать на блоке и мы
купили машину.
Мы ведь приехали в Припять в 1976 году после окончания Московского
энергетического института. Работа-ли вначале в группе рабочего проектирования
Гидропроекта. В 1979 году мой муж перешел работать на эксплуатацию. Работал
старшим инженером управления турбиной, старшим инженером управления блоком,
начальником смены турбинного цеха, заместителем начальника смены блока. В январе
1986 года стал начальником смены блока. В этой должности его застала авария...
Утром 26 апреля он не вернулся домой с работы. Я позвонила к нему на БЩУ-4,
но телефон не отвечал. Я звонила еще Брюханову, Фомину, Дятлову. Но телефоны не
отвечали. Уже значительно позже я узнала, что телефоны отключили. Я очень
волновалась. Всю первую половину дня бегала, всех спрашивала, искала мужа. Уже
все знали, что авария, и меня охватила еще большая тревога. Бегала в горисполком
к Волошке, в горком партии к Гаманюку. Наконец, расспросив многих, узнала, что
он в медсанчасти. Я бросилась туда. Но меня к нему не пустили. Сказали, что он
сейчас под капельницей. Я не уходила, подошла к окну его палаты. Вскоре он
подошел к окну. Лицо буро-коричневое. Увидев меня, он засмеялся, был
перевозбужденный, успокаивал меня, спрашивал через стекло о сыновьях. Мне
показалось, что он в это время как-то особенно радовался, что у него сыновья.
Сказал, чтобы я не выпускала их на улицу. Он был даже веселый, и я немного
успокоилась...»
Свидетельствует Л. А. Харитонова:
«К вечеру 26 апреля кто-то распустил слух, что кто хочет, может
эвакуироваться на своих машинах. Многие уехали на своих машинах в тот же день в
разные концы страны. (Увозя на одежде и на колесах машин радиоактивную грязь. —
Г. М.)
Но мы эвакуировались 26 апреля вечером па поезде «Хмельницкий—Москва». На
станции Янов патрулировали военные. Было очень много женщин с маленькими детьми.
Все были немного растерянные, но вели себя спокойно, потому что спокойными были
патрули и милиция. Люди пытливо заглядывали в глаза военным, словно искали там
испуга или тревоги. Но военные были спокойны, приветливы, улыбались, А ведь как
раз над Яновом прошло радиоактивное облако. Там была очень большая активность. И
на земле, и на деревьях, на всем. Но никто тогда не знал об этом. Внешне все
обычно. Но я все равно ощущала новое время. И когда подошел поезд, мне он
показался уже другим, будто он пришел из той, чистой эпохи, в нашу эру,
Чернобыльскую, грязную...
В вагоне проводница нагрела воды. Девочку помыли. Одежду сунули в пластиковый
мешок и закрыли в чемодан. И мы поехали. Всю дорогу, вплоть до Москвы, делали
влажную приборку. И все дальше от Припяти увозили в душе тревогу и боль...»
Свидетельствует Г. Н. Петров — бывший начальник отдела оборудования
Южатомэнергомонтажа:
«Проснулись часов в десять утра 26 апреля. День как день. На полу теплые
солнечные зайчики, в окнах синее небо. На душе хорошо, приехал домой, отдохну.
Вышел на балкон покурить. На улице уже полно ребят. Малыши играют в песке,
строят домики, лепят пирожки. Постарше — гоняют на великах. Молодые мамаши
гуляют с детскими колясками. Жизнь как жизнь. И вдруг вспомнил ночь, как
подъехал к блоку. Тревогу и страх ощутил. Помню и недоумение. Как это может
быть? Все обычно и в то же время — все страшно радиоактивно. Запоздалая
брезгливость в душе к невидимой грязи, потому что нормальная жизнь. Глаза видят:
все чисто, а на самом деле все грязно. В уме не укладывается.
К обеду стало веселое настроение. И воздух стал ощущаться острее. Металл не
металл в воздухе, а так, что-то остренькое, и во рту возле зубов кисленько,
будто батарейку слабую языком пробуешь...
Сосед наш Михаил Васильевич Метелев, электромонтажник с Гидроэлектромонтажа,
часов в одиннадцать полез на крышу и лег там в плавках загорать. Потом один раз
спускался попить, говорит, загар сегодня отлично пристает, просто как никогда.
От кожи сразу, говорит, паленым запахло. И бодрит очень, будто пропустил
стопарик. Приглашал меня, но я не пошел. Говорит, никакого пляжа не надо. И
хорошо видно, как реактор горит, четко так на фоне синего неба...
А в воздухе в это время, как я потом узнал, было уже до тысячи миллибэр в
час. И плутоний, и цезий, и стронций. А уж йоду-131-го больше всего, и в
щитовидки он набился туго к вечеру. У всех: у детей, у взрослых...
Но мы тогда ничего не знали. Мы жили обычной и, теперь я понимаю, радостной
человеческой жизнью.
К вечеру у соседа, что загорал на крыше, началась сильная рвота и его увезли
в медсанчасть. А потом, кажется, в Москву. Или в Киев. Не знаю точно. Но это
воспринималось как бы отдельно. Потому что обычный летний день, солнце, синее
небо, теплынь. Бывает же: кто-то заболел, кого-то увезла «скорая»...
А так во всем был обыкновенный день. Я уже потом, когда все сказали,
вспоминал ту ночь, когда подъехал к блоку. Рытвины на дороге в свете фар
вспомнил, покрытый цементной пылью бетонный завод. Запомнилось почему-то. И
думаю: странно, и рытвина эта радиоактивная, обычная ведь рытвина, и весь этот
бетонный завод, и все-все: и небо, и кровь, и мозг, и мысли человеческие.
Все...»
Тем временем в Москве, в аэропорту «Быково» готовились к вылету члены
Правительственной комиссии. Спецрейс был намечен на 11.00, но люди собирались
медленно, и вылет дважды откладывался. Вначале на 14 часов, затем — на 16.00.
Свидетельствует Михаил Степанович Цвирко — начальник Всесоюзного
строительно-монтажного объединения Союзатомэнергострой:
«Утром 26 апреля 1986 года у меня поднялось давление, болела голова, и я
пошел в поликлинику 4-го Главного управления при Минздраве СССР.
Где-то около 11 часов утра позвонил на работу, узнать, как идут дела на
стройках объединения. Дежурила главспец техотдела Еремеева Лидия Всеволодовна.
Она сказала, что обычной сводки стройка не передала. Главный инженер или
диспетчер сказал ей, что у них там авария, и людей Кизима отпустил с 5-го блока
домой.
Еремеева сказала также, что меня разыскивает министр Майорец.
Позвонил помощнику министра. Тот возбужденно сказал мне, что не может меня
найти ни дома, ни на работе и чтобы я срочно собирал вещички и ехал в аэропорт
„Быково". Оттуда вылет в Чернобыль. Собрался, приехал в „Быково". А там уже
прохаживался заместитель министра Александр Николаевич Семенов. Сказал мне, что
в Чернобыле обрушилось четыре фермы перекрытия машзала 4-го блока.
— Грязь есть? — спросил я.
— Грязи нет, — сказал он. — Все чисто.
Я уже стал размышлять, какие подогнать краны, чтобы поставить фермы на место,
но подъехал заведующий сектором ЦК КПСС В. В. Марьин и сказал, что обрушились не
только фермы машзала, но и шатер над реактором.
— А грязь есть? — спросил я.
— Удивительно, но грязи нет, — сказал Марьин. — И самое главное — реактор
цел. Прекрасный реактор! Умница Доллежаль, такую машину сконструировал!
Задача усложнилась, и я стал думать — как бы подступиться к центральному залу
кранами...»
Тут я прерву свидетельство М. С. Цвирко, с которым проработал бок о бок в
Союзатомэнергострое четыре года.
Опытный, цепкий, деловой, десятилетиями строивший заводы для других
министерств, бывший начальник Главзаводспецстроя, Михаил Степанович Цвирко
буквально силой был посажен в кресло начальника Союзатомэнергостроя, до того
стойко не выполнявшего плановые показатели. К чести Цвирко надо сказать, что он
отчаянно сопротивлялся, говорил, что атомных станций отродясь не знает, что дело
ему чуждое и непонятное. Но ЦК и министр все же приказали, и он подчинился.
Начальство Цвирко не только уважал, он его трепетно боялся, чего и не
скрывал.
Поскольку устройства АЭС Цвирко не знал, то взялся за плановые показатели.
Деньги он считать умел. Тематическими задачами занимались мы, его подчиненные, и
учили атомным премудростям своего нового начальника на ходу.
Маленького роста, плотный, если не толстый, в далеком прошлом боксер с
отутюженным в боях расплюснутым носом, широкоскулый, лысый, с плотно сжатыми
челюстями (боксерская привычка), с чуть раскосыми умными голубыми глазами
татарского богдыхана — этот человек в течение года вывел объединение в пределы
плана...
Но страх владел им постоянно. Другие смеялись над ним за глаза, но я считал,
что Цвирко страдает не столько от страха перед начальством, а от угрызений
совести. Совесть мучила его, что плохо работаем. В то время он часто говорил
мне, если случался срыв той или иной тематической задачи:
— Нас же убьют! Нас же убьют! Объяснений никто слушать не будет...
Признавался также, что больше всего на свете боится радиации, поскольку
ничего в ней не понимает.
И вот он оказался в «Быково»...
Вылетели спецрейсом на Киев в 16.00. На борту Як-40 находились: старший
помощник Генерального прокурора СССР Ю. Н. Шадрин, министр энергетики и
электрификации СССР А. И. Майорец, заведующий сектором ЦК КПСС В. В. Марьин,
заместитель министра энергетики А. Н, Семенов, первый заместитель министра
среднего машиностроения А. Г. Мешков, начальник Союзатомэнергостроя М. С.
Цвирко, заместитель начальника Союзэлектромонтаж В. Н. Шишкин, заместитель
начальника Союзэнергомонтаж В. А. Шевелкин, референт Б. Е. Щербины — Л. П. Драч,
заместитель министра здравоохранения СССР Е. И. Воробьев, заместитель начальника
3-го Главного управления при Минздраве СССР В. Д. Туровский и другие.
В салоне Як-40 уселись на расположенные друг против друга красные диваны.
Заведующий сектором атомной энергетики ЦК КПСС Владимир Васильевич Марьин (это
ему звонил Брюханов в три часа ночи домой) вновь и вновь делился своими мыслями
с членами Правительственной комиссии.
— Главное, что меня обрадовало: взрыв бака СУЗ выдержал атомный реактор.
Молодец академик Доллежаль! Под его руководством создан отличный атомный
реактор. Брюханов разбудил меня своим звонком в три часа ночи и сказал:
«Страшная авария, но реактор цел. Подаем непрерывно охлаждающую воду...»
— Я думаю, Владимир Васильевич, — включился в разговор министр Майорец,
знавший хорошо только устройство трансформатора, человек совершенно случайный в
вихре атомных событий, — мы долго в Припяти не засидимся...
Эту же мысль А. И. Майорец повторил через полтора часа в самолете АН-2, на
котором члены Правительственной комиссии вылетели из аэропорта «Жуляны» в
Припять. Вместе с ними из Киева летел министр энергетики Украинской ССР В. Ф.
Скляров. Услышав оптимистические рассуждения Майорца относительно краткого
пребывания в Припяти, он поправил своего патрона:
— Думаю, Анатолий Иванович, двумя днями не обойдемся...
— Не пугайте нас, товарищ Скляров, — оборвал его Майорец. — Наша, а вместе с
нами и ваша главная задача состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки восстановить
разрушенный энергоблок и включить его в энергосистему...
Свидетельствует М. С. Цвирко:
«Когда мы прилетели в Киев, министр энергетики Украины Скляров сразу же
сказал нам, что в Припяти радиация. Лично меня это встревожило. „Значит, что-то
с реактором", — подумал я тогда. Но министр Майорец был спокоен...
Самое неприятное, что три ночи мы спали в гостинице „Припять", а ведь там уже
была страшная грязь...»
Примерно в то же время, когда члены Правительственной комиссии прибыли в
Припять, личный самолет заместителя Председателя Совета Министров СССР Б. Е.
Щербины был на подлете из Барнаула в Москву. Прилетев в столицу, зампред
переоденется, закусит и из аэропорта «Внуково» вылетит в Киев. В Припять он
прибудет к девяти вечера...
Свидетельствует Г. А. Шашарин:
«Прилетел Майорец. Мы сели в Ан-2 и вылетели в Припять. На пути из Киева в
Припять я сказал Майорцу о необходимости создания на месте аварии рабочих групп.
Продумал это заранее, когда летел из Симферополя в Киев. По моему мнению, такие
группы должны были упорядочить работу Правительственной комиссии, помочь в
подготовке и принятии решения. Вот перечень групп, который я предложил Майорцу:
— группа изучения причин аварии и безопасности АЭС — ответственные Шашарин,
Мешков;
— группа изучения реальной радиационной обстановки вокруг атомной станции —
ответственные Абагян, Воробьев, Туровский;
— группа аварийно-восстановительных работ — ответственные Семенов, Цвирко,
монтажники;
— группа оценки необходимости эвакуации населения Припяти и близлежащих
хуторов и деревень — ответственные Шашарин, Сидоренко, Легасов;
— группа обеспечения приборами, оборудованием и материалами — ответственные
Главэнергокомплект, Главснаб.
Приземлились на аэродромчике между Припятью и Чернобылем. Там уже ждали
машины. Встречали генерал Бердов, секретарь горкома партии Гаманюк, председатель
горисполкома Волошко и другие. Подъехал и Кизима на „газике". Мы с Марьиным сели
в „газик" (Кизима был за рулем) и попросили его проскочить к аварийному блоку.
Майорец тоже порывался туда, но его отговорили, и он с командой поехал в горком
КПСС. Миновали кордон оцепления и свернули на промплощадку...»
Ненадолго прерву свидетельство Г. А. Шашарина, чтобы охарактеризовать
заведующего сектором ЦК КПСС В. В. Марьина.
Марьин Владимир Васильевич — по образованию и опыту работы инженер-строитель
электростанций.
Долгое время он работал главным инженером строительно-монтажного треста в
Воронеже, участвовал в сооружении Нововоронежской АЭС. В 1969 году был приглашен
на работу в ЦК КПСС в качестве инструктора ЦК по атомной энергетике в отдел
машиностроения.
Я довольно часто видел его на коллегиях Минэнерго СССР, партийных собраниях,
на критических разборах работы атомных энергетиков в объединениях и главных
управлениях. Марьин принимал деятельное участие в работе пусковых штабов атомных
строек, лично знал начальников управлений строительства всех АЭС и напрямую,
минуя Министерство энергетики, эффективно помогал стройкам в решении вопросов
обеспечения оборудованием, материально-техническими и трудовыми ресурсами.
Лично мне этот человек был симпатичен своей прямотой и ясностью мышления.
Трудолюбивый, динамичный, работоспособный, постоянно повышающий свою
квалификацию инженер. Внешне — крупный, рыжеволосый, с громовым басом, сильно
близорукий, сверкающий толстыми стеклами роговых очков. Марьин при всем при том
был прежде всего строителем и в вопросах эксплуатации АЭС не разбирался.
В конце семидесятых годов, работая начальником отдела в ВПО Союзатомэнерго, я
часто бывал у него в ЦК, где он, в ту пору единственный в аппарате Центрального
Комитета КПСС, занимался вопросами атомной энергетики.
Обсудив дела, он обычно позволял себе лирические отступления, жаловался на
перегруженность.
— У тебя вот десять человек в отделе, а на мне одном висит вся атомная
энергетика страны... — и просил: — Оперативней помогайте мне, вооружайте
материалами, информацией...
Частыми у него в ту пору были спазмы сосудов мозга с потерей сознания и
неотложкой...
В начале восьмидесятых годов в ЦК был организован сектор атомной энергетики.
Марьин возглавил его, и тогда, наконец, появились помощники. Одним из них стал
Г. А. Шашарин, опытный атомщик, многие годы проработавший на эксплуатации АЭС,
будущий заместитель министра энергетики по эксплуатации атомных станций.
С ним-то теперь и ехал Марьин в «газике» Кизимы к разрушенному блоку. Пока
они ехали по шоссе Чернобыль — Припять, навстречу им еще попадались автобусы и
частные машины. Началась уже самоэвакуация. Некоторые люди с семьями и
радиоактивным барахлом покидали Припять навсегда еще 26 апреля днем, не
дождавшись распоряжений местных властей...
Свидетельствует Г. А. Шашарин:
«Кизима подвез нас к торцу четвертого блока. Мы вышли из машины рядом с
завалом. Без респираторов и защитной одежды. Никто из вновь прибывших не
представлял себе масштабов катастрофы, а Брюханову и Фомину было не до нас.
Затруднялось дыхание, жгло глаза, душил кашель, появилась какая-то внутренняя
суетливость, неотчетливое желание драпануть куда-нибудь. И еще одно — стыдно
было смотреть на все. Думалось невольно: неужели это мы привели к „этому"? Еще
по дороге сюда, когда в поле зрения появился разрушенный блок, Марьин стал
кричать. Мол, вот до чего дожили. Это, стало быть, и наша работа, говорит, в
этом ужасе, в одной куче с работой Брюханова и Фомина...
Кизима уже побывал здесь с утра. Никаких дозиметров у нас, конечно, не было.
Кругом валялись графит, обломки топлива. Видны были поблескивающие на солнце,
сдвинутые со своих опор барабаны-сепараторы. Над полом центрального зала,
похоже, около реактора, виднелся огненный ореол, словно солнечная корона. От
этой короны поднимался легкий черный дымок. Мы подумали тогда, что это горит
что-нибудь на полу. В голову не шло, что это реактор. Марьин был вне себя от
злости, матерился, в сердцах пнул графитовый блок. Мы тогда еще не знали, что от
графита „светит" две тысячи рентген в час, а от топлива — все двадцать тысяч...
Был хорошо виден полусмятый аварийный бак СУЗ, так что мне стало ясно, что
взорвался не он. Бесстрашный Кизима ходил и как хозяин сокрушался, что вот-де,
мол, строишь, а теперь вот ходи по разрушенным плодам труда своего. Несколько
раз уже, говорит, был здесь с утра, чтобы проверить—не мираж ли все это?
Оказывается, не мираж. Даже ущипнул себя пару раз. Говорит, что от размазни
Брюханова ничего другого и не ждал. Это, по мнению Кизимы, должно было случиться
рано или поздно.
Мы объехали вокруг станции и спустились в бункер. Там были Прушинский,
Рязанцев и Фомин с Брюхано-вым. Брюханов был заторможен, смотрел куда-то вдаль
перед собой, апатия. Но команды исполнял довольно оперативно и четко. Фомин —
наоборот: перевозбужден, глаза воспаленные, блестели безумием, на пределе срыва,
но делал все быстро. Потом произошел срыв, тяжелая депрессия. Еще из Киева я
спросил у Брюханова и Фомина, целы ли трубопроводы подачи воды в реактор, а
также опускные трубопроводы от барабанов-сепараторов до коллекторов. Они уверяли
меня, что трубопроводы целы. Тогда у меня возникла мысль: в реактор надо
подавать раствор борной кислоты. Я дал команду Брюханову любым путем подать
питание на аварийный энергоблок и врубить питательный насос на подачу воды в
реактор. Я предполагал, что хотя бы часть воды попадет в реактор. Спросил, есть
ли у них на станции борная кислота. Сказали — есть, но мало. Связался со
снабженцами в Киеве. Нашли несколько тонн борной кислоты и обещали доставить в
Припять к вечеру. Однако к вечеру стало ясно, что все трубопроводы от реактора
оторваны и кислота не нужна. Но это поняли только к вечеру 26 апреля. А
сейчас... Уверенные, что реактор цел и что на охлаждение активной зоны подается
вода, мы с Марьиным и Кизимой поехали в горком партии Припяти на заседание
Правительственной комиссии».
Свидетельствует Владимир Николаевич Шишкин — заместитель начальника
Союзэлектромонтажа Минэнерго СССР, участник совещания в Припятском горкоме КПСС
26 апреля 1986 года:
«Все собрались в кабинете первого секретаря горкома А. С. Гаманюка. Первым
докладывал Г. А. Шашарин. Он сказал, что положение тяжелое, но контролируемое. В
реактор подается охлаждающая вода. Ведется поиск борной кислоты, и в ближайшее
время в реактор польется раствор борной кислоты, который вмиг прекратит
горение. Есть, правда, предположение, что не вся вода попадает в реактор.
Затоплены кабельные полуэтажи и распредустройства. Видимо, порвана часть
трубопроводов. Возможно, реактор частично поврежден. Для уточнения ситуации
Фомин, Прушинский и специалисты-физики из Института атомной энергии пошли еще
раз посмотреть, что с реактором. Ждем их возвращения и доклада с минуты на
минуту...
Видно, Шашарин догадывался уже, что реактор разрушен, он видел графит на
земле, куски топлива, но сознаться в этом не хватало сил. Во всяком случае, вот
так сразу. Душа, сознание требовали как бы плавного внутреннего перехода к
постижению этой страшной, поистине катастрофической реальности.
— Туда же направлен представитель Генпроектанта, — продолжал Шашарин. — Пусть
они тоже посмотрят. Здесь нужна коллективная оценка. Четвертый блок обесточен.
Трансформаторы отключились по защите от коротких замыканий. Залиты водой
кабельные полуэтажи на всем протяжении от четвертого до первого энергоблока. В
связи с затоплением распредустройств на минусовых отметках дал команду
электромонтажникам отыскать семьсот метров силового кабеля и держать наготове.
Дана также команда Фомину и Брюханову разделить неаварийные и аварийный блоки по
электроснабжению, воде и другим коммуникациям. От электриков выполняет
заместитель начальника электроцеха Леле-ченко...
— Что это за проект?! — возмутился Майорец. — Почему не предусмотрено
проектное рассечение Коммуникаций?
— Анатолий Иванович, я говорю о факте... Почему? Это уже второй вопрос... Во
всяком случае, кабель изыскивается, вода в реактор подается, коммуникации
рассекаются... Похоже, везде вокруг четвертого блока высокая радиоактивность...
— Анатолий Иванович! — громовым басом перебил Шашарина Марьин. — Мы только
что были с Геннадием Александровичем возле четвертого блока. Страшная картина.
Дико подумать, до чего дожили. Пахнет гарью, и кругом валяется графит. Я даже
пнул ногой графитовый блок, чтобы удостовериться, что он всамделишный. Откуда
графит? Столько графита?.,
— Я тоже думаю об этом, — сказал Шашарин. — Может быть, частично выбросило из
реактора... Частично...
— Брюханов?! — обратился министр к директору АЭС. — Вы докладывали весь день,
что радиационная обстановка нормальная. Что это за графит?
Брюханов, пудрено-бледный, с красными распухшими веками, вяло встал, как
обычно, долго молчал. Он всегда долго молчал, перед тем как сказать что либо.
Теперь-то явно было о чем подумать. Сказал глухим голосом:
— Трудно даже представить... Графит, который мы получили для строящегося
пятого энергоблока, цел, весь на месте. Я подумал вначале, что это тот графит,
но он на месте... Не исключен в таком случае выброс из реактора... Частичный...
Но тогда...
— Похоже, вокруг блока везде высокая радиоактивность, — снова подчеркнул
Шашарин. — Замерить точно не удается. Нет радиометров с нужным диапазоном шкал.
У имеющихся шкала на тысячу микрорентген в секунду, то есть на 3,6 рентгена в
час. На этом диапазоне зашкал повсеместно. Предполагаем, что фон очень высокий.
Был, правда, один радиометр, но его похоронило в завале...
— Безобразие! — буркнул Майорец. — Почему же на станции нет нужных приборов?
— Произошла непроектная авария. Случилось немыслимое... Мы запросили помощь
гражданской обороны и химвойск страны. Скоро должны прибыть...
— Что же произошло? — спросил Майорец. — В чем причина?
— Пока еще неясно, — стал объяснять Шашарин. — Произошло это в 1 час 26 минут
ночи во время проведения эксперимента по выбегу ротора генератора...
— Надо срочно остановить реактор! — сказал Майорец. — Почему он у вас
работает?
— Реактор заглушен, Анатолий Иванович, — сказал Шашарин.
Похоже было, что всем ответственным за катастрофу хотелось как можно дальше
отдовинуть нелегкий момент полного признания, расстановки всех точек над „i".
Хотелось, как это привыкли делать до Чернобыля, чтобы злая весть сама собою
произнеслась, чтобы ответственность и вина незаметно как-то разложилась на всех
и потихонечку. Именно поэтому, главным образом, шла тянучка, когда каждая минута
была дорога, когда промедление приводило к преступному облучению ни в чем не
повинного населения города. Когда у всех на уме было уже, истерично билось в
черепные коробки слово „эвакуация", но...
— Более того, Анатолий Иванович, — ответил Шашарин, — реактор находится
сейчас в „йодной яме", то есть глубоко отравлен...»
А реактор тем временем горел. Горел графит, изрыгая в небо миллионы кюри
радиоактивности. Но это горел не просто реактор, прорвало давний скрытый нарыв
нашей общественной жизни, нарыв самоуспокоенности и самообольщения, мздоимства и
протекционизма, круговой поруки и местничества, смердил радиацией труп уходящей
эпохи, эпохи лжи и гнойного расплавления истинных духовных ценностей...
Свидетельствует В. Н. Шишкин:
«Общее впечатление, что все главные ответственные:
Брюханов, Фомин, Мешков, Кулов и другие — преуменьшают случившееся, степень
опасности...
Далее докладывал первый секретарь Припятского горкома партии А. С. Гаманюк. В
момент аварии он находился в медсанчасти на обследовании, но утром 26 апреля,
узнав о случившемся, покинул больничную койку и вышел на работу.
— Анатолий Иванович,— сказал Гаманюк, обращаясь к Майорцу, — несмотря на
сложную и даже тяжелую ситуацию на аварийном блоке, обстановка в городе Припяти
деловая и спокойная. Никакой паники и беспорядков. Обычная нормальная жизнь
выходного дня. Дети играют на улицах, проходят спортивные соревнования, идут
занятия в школах. Даже свадьбы справляют. Сегодня вот справили шестнадцать
комсомольско-молодежных свадеб. Кривотолки и разглагольствования пресекаем. На
аварийном блоке есть пострадавшие. Двое эксплуатационников: Валерий Ходемчук и
Владимир Шашенок погибли. Двенадцать человек доставлены в медсанчасть в тяжелом
состоянии. Еще сорок человек, менее тяжелых, госпитализированы позднее.
Пострадавшие продолжают поступать. Директор АЭС Брюханов ежечасно дает сводки в
Киев и нам, что радиационная обстановка в пределах нормы, так что ждем указаний
высокой комиссии...
Затем докладывал Геннадий Васильевич Бердов — высокий, седовласый, спокойный
генерал-майор МВД, заместитель министра внутренних дел УССР. Он прибыл в Припять
в пять утра 26 апреля в новом, недавно сшитом мундире. Золотые погоны, мозаика
орденских планок, значок заслуженного работника МВД СССР. Но мундир его, седые
волосы были уже страшно грязными, радиоактивными, поскольку генерал провел все
утренние часы рядом с АЭС. Радиоактивными теперь были волосы и одежда у всех
присутствующих, в том числе и у министра Майорца. Радиация, как и смерть, не
разбирает, кто ты — министр или простой смертный. Накрывает и пронизывает всех,
кто попадет „под руку". Но никто из присутствующих тем не менее не знал об этом.
Приборов дозконтроля и защитных средств никому не выдавали. Ведь Брюханов
докладывал, что радиационная обстановка нормальная. А раз все нормально, зачем
тогда защита и приборы?
— Анатолий Иванович, — докладывал генерал Бердов. — В пять утра я уже был в
районе аварийного энергоблока. Наряды милиции буквально приняли эстафету у
пожарных. Они перекрыли все дороги к АЭС и поселку. Ведь окрестности станции
очень живописные, и люди по выходным дням любят бывать здесь. А сегодня
выходной. Но места отдыха стали теперь опасной зоной, хотя товарищ Брюханов и
говорит нам, что радиационная обстановка нормальная. Милицейские наряды по моему
приказу закрыли к ним подступы, особенно к местам рыбалки на водохранилище
пруда-охладителя, подводящего и отводящего каналов. (Тут надо заметить, что
генерал Бердов, догадываясь об опасности, не представлял, какова она на самом
деле, каков лик и образ „врага", как на него нападать и чем защищаться. Поэтому
его милиционеры оказались без дозиметров и средств индивидуальной защиты и все
до одного переоблучились. Но инстинктивно они действовали правильно — резко
сократили доступ в предполагаемую опасную зону. — Г. М.)
В Припятском отделении милиции сформирован и действует оперативный штаб. На
помощь прибыли сотрудники Полесского, Иванковского и Чернобыльского райотделов.
К семи утра в район аварии прибыли более тысячи сотрудников МВД. Задействованы
усиленные наряды транспортной милиции на железнодорожной станции Янов. Здесь к
моменту взрыва находились составы с ценнейшим оборудованием, по расписанию
приходили и приходят пассажирские поезда, локомотивные бригады и пассажиры
которых ничего о случившемся не знают. Сейчас лето, открытые окна вагонов.
Железная дорога проходит, вы знаете, в пятистах метрах от аварийного блока.
Радиация, я думаю, достигает вагонов. Надо закрывать движение поездов...
(Хочется еще раз похвалить генерала Бердова. Из всех собравшихся государственных
мужей он первый правильно оценил обстановку, хотя не владел специальными
знаниями в атомной технике. — Г. М.) Постовую службу везде несут не
только сержанты и старшины, но и полковники милиции. Лично проверяю посты в
опасной зоне. Никто не покинул свой пост, не было ни одного отказа от несения
службы. Проведена большая работа в автохозяйствах Киева. На случай эвакуации
населения тысяча сто автобусов подогнаны к Чернобылю и ждут указаний
Правительственной комиссии...
— Что вы мне все про эвакуацию рассказываете?! — взорвался министр Майорец. —
Паники захотели? Надо остановить реактор, и все прекратится. Радиация придет в
норму. Что с реактором, товарищ Шашарин?
— Реактор в „йодной яме", Анатолий Иванович, — ответил Шашарин, — операторы,
по данным Фомина и Брюханова, заглушили его, нажав кнопку „АЗ" пятого рода. Так
что реактор надежно заглушен...
Шашарин вправе был говорить так, ибо не знал подлинного состояния реактора.
Он ведь еще не поднимался в воздух.
— А где операторы? Их можно пригласить? — настаивал министр.
— Операторы в медсанчасти, Анатолий Иванович... В очень тяжелом состоянии...
— Я предлагал эвакуацию еще рано утром, — глухо сказал Брюханов. — Запрашивал
Москву, товарища Драча. Но мне сказали, чтобы до приезда Щербины ничего в этом
направлении не предпринимать. И не допускать паники...
— Кто осматривал реактор? — спросил Майорец. — В каком он сейчас состоянии?
— Осмотр реактора с вертолета производили Прушинский и представитель главного
конструктора аппарата Полушкин. Сделаны снимки. Товарищи вот-вот должны
подойти...
— Что скажет гражданская оборона? — спросил Майорец.
Встал С. С. Воробьев (тот самый начальник штаба гражданской обороны АЭС,
который в первые два часа после взрыва с помощью единственного радиометра со
шкалой 250 рентген определил опасную степень радиации и доложил Брюханову.
Реакция Брюханова читателю известна. Однако следует дополнить, что Воробьев
продублировал ночью сигнал тревоги в Штаб гражданской обороны Украинской
республики, что достойно всяческой похвалы. — Г. М.). Он сказал, что
имеющийся у него прибор фиксирует высокие радиационные поля. На диапазоне 250
рентген зашкал в районах завала, машинного зала, центрального зала и в других
местах вокруг блока и внутри.
— Нужна срочная эвакуация, Анатолий Иванович, — заключил Воробьев.
— Не усугубляй, — шикнул на подчиненного Брюханов.
Встал представитель 3-го Главного управления при Минздраве СССР В. Д.
Туровский.
— Анатолий Иванович, необходима срочная эвакуация. То, что мы увидели в
медсанчасти... Я имею в виду осмотр больных... Они в тяжелом состоянии, дозы,
ими полученные по первым поверхностным оценкам, в три-пять раз превышают
летальные. Тяжелейшее внешнее и внутреннее облучение. Этот буро-коричневый
ядерный загар... Бесспорна диффузия радиоактивности на большие расстояния от
энергоблока...
— А если вы ошибаетесь? — сдерживая недовольство, спросил Майорец, внешне
всегда приглаженный и заторможенный. — Разберемся в обстановке и примем
правильное решение. Но я против эвакуации. Опасность явно преувеличивается...
Совещание прервало свою работу. Был объявлен перерыв. Министр и Шашарин вышли
в коридор покурить...»
Свидетельствует главный инженер В ПО Союзатоэнерго Б. Я. Прушинский:
«Когда мы вернулись с Костей Полушкиным в горком КПСС Припяти, Шашарин и
Майорец стояли в коридоре и курили. Мы подошли и прямо там, в коридоре,
состоялся доклад министру о результатах осмотра 4-го блока с воздуха.
Первым нас увидел Шашарин и крикнул: — Вот кстати, Прушинский и
Полушкин! Мы подошли.
— Доложите, что увидели с вертолета.
Сильно затягиваясь, в клубах дыма, и без того щупленький и казавшийся на
заседаниях коллегий каким-то игрушечным по сравнению с тяжеловесами типа
замминистра А. Н. Семенова, Шашарин сейчас еще больше осунулся, побледнел,
обычно приглаженные каштановые волосы теперь торчали перьями во все стороны.
Бледно-голубые глаза за огромными стеклами импортных очков смотрели затравленно,
не мигая. И все мы были в это время затравленные и убитые. Пожалуй что, кроме
Майорца. Он, как всегда, аккуратный, с ровненьким розовым картинным пробором,
выглядел эдаким округлым, как обычно, с ничего не выражающим лицом. А, может,
просто ничего не понимал. Скорее, так оно и было.
— Анатолий Иванович! — бодро начал я. — Мы вот с Константином
Константиновичем Полушкиным осмотрели 4-й блок с воздуха. С высоты 250 метров.
Блок разрушен... То есть разрушена главным образом монолитная часть реакторного
отделения: помещения главных циркуляционных насосов, барабан-сепараторные,
центральный зал. Верхняя биозащита реактора раскалена до ярко-вишневого цвета и
лежит наклонно на шахте реактора. На ней хорошо видны обрывки коммуникаций КЦТК
(контроля целостности технологических каналов) и охлаждения СУЗ (системы
управления защитой). Везде: на крыше блока „В", машзала, деаэраторной этажерки,
на асфальте вокруг блока и даже на территории распредустройств 330 и 750
киловольт разбросаны графит и обломки топливных сборок. Можно предположить, что
реактор разрушен. Охлаждение не эффективно...
— Аппарату крышка, — сказал Полушкин.
— Что вы предлагаете? — спросил Майорец.
— А черт его знает, сразу не сообразишь. В реакторе горит графит. Надо
тушить. Это перво-наперво... А как, чем... Надо думать...
Все вошли в кабинет Гаманюка. Правительственная комиссия продолжила работу.
Шашарин доложил совавшимся идею создания рабочих групп. Когда речь коснулась
восстановительных работ, представитель Генпроектанта с места выкрикнул:
— Надо не восстанавливать, а захоранивать.
— Не разводите дискуссии, товарищ Конвиз! — прервал его Майорец. — Названным
группам приступить к работе и в течение часа подготовить мероприятия для доклада
Щербине. Он через час-два должен подъехать...»
Свидетельствует Г. А. Шашарин:
«Потом мы поднимались на вертолете в воздух с Марьиным и зампредом
Госатомэнергонадзора членом-корреспондентом АН СССР В. А. Сидоренко. Зависали
над блоком на высоте 250—300 метров. У пилота был, кажется, дозиметр. Хотя, нет
— радиометр. На этой высоте „светило" рентген триста в час. Верхняя плита была
раскалена до ярко-желтого цвета, против ярко-вишневого, доложенного Прушинским.
Значит, температура в реакторе росла. Плита биозащиты лежала на шахте не так
наклонно, как потом, когда бросали мешки с песком. Грузом ее развернуло... Здесь
уж мне стало ясно окончательно, что реактор разрушен. Сидоренко предложил
бросить в реактор тонн сорок свинца, чтобы уменьшить излучение. Я категорически
воспротивился. Такой вес, да с высоты двести метров — огромная динамическая
нагрузка. Пробьет дыру насквозь, до самого бассейна-барбатера, и вся
расплавленная активная зона вытечет вниз, в воду бассейна. Тогда надо будет
бежать, куда глаза глядят...
Когда приехал Щербина, я зашел к нему отдельно, до совещания, доложил
ситуацию и сказал, что надо немедленно эвакуировать город. Он сдержанно ответил,
что это может вызвать панику. И что паника еще страшнее радиации...»
К этому времени, примерно к девятнадцати часам, кончились все запасы воды на
АЭС, насосы, с таким трудом запущенные переоблучившимися электриками,
остановились. Вся вода, как я уже говорил раньше, попала не в реактор, а на
низовые отметки, затопив электропомещения всех блоков. Радиоактивность везде
стремительно растет, разрушенный реактор продолжает изрыгать из своего
раскаленного жерла миллионы кюри радиоактивности. В воздухе весь спектр
радиоактивных изотопов, в том числе плутоний, америций, кюрий. Все эти изотопы
инкорпорировали (проникли внутрь) в организмы людей, как работающих на АЭС, так
и жителей Припяти. В течение 26 и 27 апреля, вплоть до эвакуации, продолжалось
накопление радионуклидов в организмах людей, а кроме того, они подвергались
внешнему гамма- и бета-облучению...
В медсанчасти города Припять
Первая группа пострадавших, как мы уже знаем, была доставлена в медсанчасть
через тридцать-сорок минут после взрыва. При этом следует отметить всю
особенность и тяжесть ситуации в условиях ядерной катастрофы в Чернобыле, когда
воздействие излучений на организмы людей оказалось комплексным: мощное внешнее и
внутреннее облучение, осложненное термическими ожогами и увлажнением кожных
покровов. Картина реальных поражений и доз не могла быть оперативно установлена
из-за отсутствия у врачей данных службы радиационной безопасности атомной
станции об истинных радиационных полях. Как я уже упоминал ранее, имевшиеся на
АЭС радиометры показывали интенсивность радиации три-пять рентген в час. В то же
время более точная информация начальника Штаба гражданской обороны АЭС С. С.
Воробьева не была учтена. «Смягченная» информация службы РБ АЭС, естественно, не
насторожила должным образом врачей медсанчасти, и без того недостаточно
подготовленных в этом плане.
И только первичные реакции облученных: мощная эритема (ядерный загар), отеки,
ожоги, тошнота, рвота, слабость, у некоторых шоковые состояния — заставили
предполагать очень тяжелые поражения.
Кроме того, медсанчасть, обслуживающая Чернобыльскую АЭС, не была оснащена
необходимой радиометрической аппаратурой с достаточно широким диапазоном шкал
измерений, позволяющей оперативно определять характер и степень внешнего и
внутреннего облучений. Бесспорно, врачи медсанчасти не были подготовлены
организационно к приему подобного рода больных. Не была в связи с этим проведена
необходимая в таких случаях срочная классификация пострадавших по типу течения
болезни при остром лучевом синдроме, каждому из которых присущи определенные
ранние симптомы, различия между которыми имеют значение для терапии заболевания.
В качестве основного критерия в таких случаях выбирается вероятный исход
болезни:
1. Выздоровление невозможно или маловероятно.
2. Выздоровление возможно при использовании современных терапевтических
средств и методов.
3. Выздоровление вероятно.
4. Выздоровление гарантировано.
Такая классификация особенно важна в том случае, когда при аварии облучено
большое количество людей, и может возникнуть необходимость скорее определить тех
из них, кому своевременно оказанная медицинская помощь может спасти жизнь. То
есть такая помощь должна охватывать пораженных второй и третьей группы лиц
указанной классификации, так как их судьба существенно зависит от своевременно
принятых терапевтических мер.
Здесь особенно важно знать, когда началось облучение, сколько оно длилось,
сухая или мокрая была кожа (через влажную кожу интенсивнее диффундируют внутрь
радионуклиды, особенно через кожу, пораженную ожогами и ранениями).
Мы знаем, что практически вся смена Акимова не имела респираторов и
таблеток-протекторов (йодистого калия и пентоцина), и работа этих людей
проходила без грамотного дозиметрического обеспечения.
Все поступившие в медсанчасть пострадавшие не были классифицированы по типу
течения острой лучевой болезни, свободно общались друг с другом. Не была
обеспечена достаточная дезактивация кожных покровов (только обмыв под душем,
который был неэффективен или мало эффективен из-за диффузии радионуклидов с
накоплением в зернистом слое под эпидермисом).
При этом основное внимание было обращено на терапию больных первой группы с
тяжелыми первичными реакциями, которых сразу положили под капельницу, и больных
с тяжелыми термическими ожогами (пожарные, Шашенок, Кургуз).
Только через четырнадцать часов после аварии из Москвы самолетом прибыла
специализированная бригада в составе физиков, терапевтов-радиологов,
врачей-гематологов. Были проведены одно-, трехкратные анализы крови, заполнены
амбулаторные карты-выписки с указанием клинических проявлений после аварии,
жалоб пострадавших, числа лейкоцитов и лейкоцитарной формулы...
Свидетельствует начальник смены блока № 4 В. Г. Смагин (принимал смену у
Акимова):
«Около четырнадцати часов покинул БЩУ (началась рвота, головная боль,
головокружение, полуобморочное состояние), помылся и переоделся в
санпропускнике, пришел на АБК-1 в здравпункт. Там уже были врачи, сестры.
Попытались записать, где был, какие радиационные поля? Но что мы знали? Мы
толком ничего не знали. Зашкал на тысяче микрорентген в секунду — и все. Где
был?.. Разве расскажешь, где был. Это надо им весь проект АЭС докладывать. К
тому же, меня все время мутило. Тогда нас, человек пять, посадили в „скорую" и
отвезли в медсанчасть Припяти.
Привезли в приемный покой, РУПом (прибор для замера активности) замерили
активность каждого. Все радиоактивны. Помылись еще раз. Все равно радиоактивные.
Проводили нас на третий этаж к терапевтам. Было в ординаторской несколько
терапевтов. Меня сразу увидела и взяла к себе Людмила Ивановна Прилепская. У нее
муж тоже начальник смены блока, и мы дружили семьями. Но тут у меня и других
ребят началась рвота. Мы увидели ведро или урну, схватили и втроем начали рвать
в это ведро.
Прилепская записала мои данные, выяснила место, где я был на блоке и какие
там радиационные поля. Никак не могла взять в толк, что там везде поля, везде
грязь. Нет ни одного чистого уголка. Вся атомная станция — сплошное радиационное
поле. Пыталась выяснить, сколько я схватил. В промежутках между рвотами
рассказывал ей как мог. Сказал, что поля из нас никто точно не знает. Зашкал на
тысяче микрорентген в секунду — и все. Чувствовал себя очень плохо. Дикая
слабость, головокружение, дурнота.
Проводили в палату и положили на свободную койку. Сразу поставили капельницу
в вену. Длилось это долго. Примерно, два с половиной-три часа. Влили три
флакона: в двух прозрачная жидкость, в одном — желтоватая. Мы все это называли —
физраствор.
Часа через два в теле стала ощущаться бодрость. Когда кончилась капельница, я
встал и начал искать курево. В палате было еще двое. На одной койке прапорщик из
охраны. Все говорил:
— Сбегу домой. Жена, дети волнуются. Не знают, где я. И я не знаю, что с
ними.
— Лежи, — сказал я ему. Хватанул бэры, теперь лечись...
На другой койке лежал молодой наладчик из Чернобыльского пусконаладочного
предприятия. Когда он узнал, что Володя Шашенок умер утром, кажется, в шесть
утра, то начал кричать, почему скрыли, что он умер, почему ему не сказали. Это
была истерика. И, похоже, он перепугался. Раз умер Шашенок, значит, и он может
умереть. Он здорово кричал.
— Все скрывают, скрывают!.. Почему мне не сказали?!
Потом он успокоился, но у него началась изнурительная икота.
В медсанчасти было грязно. Прибор показывал радиоактивность. Мобилизовали
женщин из Южатомэнергомонтажа. Они все время мыли в коридоре и в палатах. Ходил
дозиметрист и все измерял. Бормотал при этом:
— Моют, моют, а все грязно...
Похоже, он был недоволен работой женщин, хотя они здорово старались и ни в
чем не были виноваты. Были настежь открыты окна, на улице духота, в воздухе
радиоактивность. Гамма-фон в воздухе. Поэтому прибор неверно показывал. То есть
верно — показывал грязь. С улицы все летело внутрь и оседало.
В открытое окно услышал, что меня зовут. Выглянул, а внизу Сережа Камышный,
начальник смены реакторного цеха из моей смены. Спрашивает: „Ну как дела?" А я
ему в ответ: „Закурить есть?"
— Есть!
Спустили шпагат и на шпагате подняли сигареты. Я ему сказал:
— А ты, Серега, что бродишь? Ты тоже нахватался. Иди к нам.
А он говорит:
— Да я нормально себя чувствую. Вот дезактивировался. — Он достал из кармана
бутылку водки. — Тебе не надо?
— Не-ет! Мне уже влили...
Заглянул в палату к Лене Топтунову. Он лежал. Весь буро-коричневый. У него
был сильно отекший рот, губы-Распух язык. Ему трудно было говорить.
Всех мучило одно: почему взрыв?
Я спросил его о запасе реактивности. Он с трудом сказал, что „Скала"
показывала восемнадцать стержней. Но, может, врала. Машина иногда врет...
Володя Шашенок умер от ожогов и радиации в шесть утра. Его, кажется, уже
похоронили на деревенском кладбище. А заместитель начальника электроцеха
Александр Лелеченко после капельницы почувствовал себя настолько хорошо, что
сбежал из медсанчасти и снова пошел на блок. Второй раз его уже повезли в Киев в
очень тяжелом состоянии. Там он и скончался в страшных муках. Общая доза, им
полученная, составила две с половиной тысячи рентген. Не помогли ни интенсивная
терапия, ни пересадка костного мозга...
После капельницы многим стало лучше. Я встретил в коридоре Проскурякова и
Кудрявцева. Они оба держали руки прижатыми к груди. Как закрывались ими от
излучения реактора в центральном зале, так и остались руки в согнутом положении,
не могли разогнуть, страшная боль. Лица и руки у них очень отекли,
темно-буро-коричневого цвета. Оба жаловались на мучительную боль в коже рук и
лица. Говорить долго не могли, и я не т1ал их больше тревожить.
Но Валера Перевозченко после капельницы не встал. Лежал, молча отвернувшись к
стене. Сказал только, что страшная боль во всем теле. И физраствор не поднял ему
настроения.
Толя Кургуз был весь в ожоговых пузырях. В иных местах кожа лопнула и висела
лохмотьями. Лицо и руки сильно отекли и покрылись корками. При каждом мимическом
движении корки лопались. И изнурительная боль. Он жаловался, что все тело
превратилось в сплошную боль.
В таком же состоянии был Петя Паламарчук, вынесший Володю Шашенка из атомного
ада...
Врачи, конечно, делали очень много для пострадавших, но их возможности были
ограничены. Они и сами облучились. Атмосфера, воздух в медсанчасти — были
радиоактивные. Сильно излучали и тяжелые больные. Они ведь вобрали радионуклиды
внутрь и впитали в кожу.
Действительно, нигде в мире подобного не было. Мы были первыми после Хиросимы
и Нагасаки. Но гордиться здесь нечем...
Все, кому полегчало, собрались в курилке. Думали только об одном: почему
взрыв? Был тут и Саша Акимов, печальный и страшно загорелый. Вошел Анатолий
Степанович Дятлов. Курит, думает. Привычное его состояние. Кто-то спросил:
— Сколько хватанул, Степаныч?
— Д-да, думаю, р-рентген сорок... Жить будем...
Он ошибся ровно в десять раз. В 6-й клинике Москвы у него определили
четыреста рентген. Третья степень острой лучевой болезни. И ноги он себе
подпалил здорово, когда ходил по топливу и графиту вокруг блока...
Но почему так произошло? Ведь все протекало нормально. Все правильно делали,
режим был относительно спокоен. И вдруг... В считанные секунды все рухнуло...
Так думали все операторы.
И только Топтунов, Акимов и Дятлов могли, казалось всем, ответить на эти
вопросы. Но весь фокус состоял в том, что и они ответить на этот вопрос не
могли. У многих в голове торчало слово „диверсия". Потому что, когда не можешь
объяснить, то на самого черта подумаешь...
Акимов на мой вопрос ответил одно:
— Мы все правильно делали... Не понимаю, почему так произошло...
Весь он был полон недоумения и досады.
Тогда действительно многим было все непонятно. Глубину постигшей нас беды мы
еще не сознавали. Дятлов тоже был уверен в правильности своих действий.
К вечеру прибыла команда врачей из 6-й клиники Москвы. Ходили по палатам.
Осматривали нас. Бородатый доктор, кажется, Георгий Дмитриевич Селидовкин,
отобрал первую партию — двадцать восемь человек — для срочной отправки в Москву.
Отбор делал по ядерному загару. Было не до анализов. Почти все двадцать восемь
умрут...
Из окна медсанчасти хорошо был виден аварийный блок. К ночи загорелся графит.
Гигантское пламя. Вилось вокруг венттрубы впечатляющим огненным смерчем. Страшно
было смотреть. Больно.
Руководил отправкой первой партии зампредисполкома Саша Эсаулов. Двадцать
шесть человек посадили в красный ,,Икарус". Кургуза и Паламарчука повезли
„скорой". Улетели из Борисполя часа в три ночи.
Остальных, которым было полегче, в том числе и меня, отправили в 6-ю клинику
Москвы 27 апреля. Выехали из Припяти где-то около двенадцати дня. Более ста
человек тремя „Икарусами". Крики и слезы провожающих. Ехали все, не
переодеваясь, в полосатых больничных одеждах...
В 6-й клинике определили, что я схватил 280 рад...»
Около девяти вечера 26 апреля 1986 года прибыл в Припять заместитель
Председателя Совета Министров СССР Борис Евдокимович Щербина. Поистине
историческая роль выпала на его долю. Он стал первым председателем
Правительственной комиссии по ликвидации последствий ядерной катастрофы в
Чернобыле. Он же, вся его деятельность по руководству энергетикой через
некомпетентного Майорца, на мой взгляд, ускорили приход Чернобыля.
Невысокого роста, щупленький, теперь больше обычного бледный, с плотно
сжатым, уже старческим ртом и властными тяжелыми складками худых щек, он был
спокоен, собран, сосредоточен.
Не понимал он пока еще, что кругом — и на улице, и в помещении — воздух
насыщен радиоактивностью, излучает гамма- и бета-лучи, которым абсолютно все
равно, кого облучать — Щербину или простых смертных. А их-то, этих простых
смертных, было в ночном городе, за окном кабинета, около сорока восьми тысяч со
стариками, женщинами и детьми. Но почти так же все равно было и Щербине, ибо
только он хотел и мог решать — быть или не быть эвакуации, считать или не
считать происшедшее ядерной катастрофой.
Он вел себя в присущей ему манере. Вначале был тих, скромен, и даже чуть
апатичен внешне. Колоссальная, мало контролируемая власть, вложенная в этого
маленького сухонького человека, сообщала ему сладостное ощущение неограниченного
могущества, и, казалось, он, как Господь Бог, сам решал, когда ему карать, когда
миловать, но... Щербина был человек, и все у него произойдет как у человека:
вначале подспудно, на фоне внешнего спокойствия, будет зреть буря, потом, когда
он кое-что поймет и наметит пути, разразится буря реальная, злая буря
торопливости и нетерпения:
— Скорей, скорей! Давай, давай!
Но в Чернобыле разыгралась космическая трагедия. А Космос надо давить не
только космической силой, но и глубиной разума, — это тоже Космос, но только
живой и, стало быть, более могущественный.
По итогам деятельности рабочих комиссий первым Докладывал Майорец. Он
вынужден был признать, что 4-й блок разрушен, что разрушен и реактор. Вкратце
изложил мероприятия по укрытию (захоронению) блока. Надо, говорит, уложить в
разрушенное взрывом тело блока более 200 тысяч кубометров бетона. Видимо, надо
делать металлические короба, обкладывать ими блок и уже их бетонировать.
Непонятно, что делать с реактором. Он раскален. Надо думать об эвакуации. «Но я
колеблюсь. Если потушить реактор, радиоактивность должна уменьшиться или
исчезнуть...»
— Не торопитесь с эвакуацией, — спокойно, но было видно, это деланное
спокойствие, сказал Щербина. Внутри у него, чувствовалось, клокотала бессильная
ярость.
Ах, как ему хотелось, чтобы не было эвакуации! Ведь так все хорошо началось у
Майорца в новом министерстве. И коэффициент установленной мощности повысили, и
частота в энергосистемах стабилизировалась... И вот тебе...
После Майорца выступали Шашарин, Прушинский, генерал Бердов, Гаманюк,
Воробьев, командующий химвойск генерал-полковник Пикалов, от проектировщиков
Куклин и Конвиз, от дирекции АЭС — Фомин и Брюханов.
Выслушав всех, Щербина пригласил присутствующих к коллективному размышлению.
— Думайте, товарищи, предлагайте. Сейчас нужен мозговой штурм. Не поверю,
чтобы нельзя было погасить какой-то там реактор. Газовые скважины гасили, не
такой огонь там был — огненная буря. Но гасили же!
И начался мозговой штурм. Каждый говорил, что в голову взбредет. В этом и
заключается способ мозгового штурма. Даже какая-нибудь ерунда, околесица, ересь
может неожиданно натолкнуть на дельную мысль. Чего только не предлагалось: и
поднять на вертолете огромный бак с водой и бросить его на реактор, и сделать
своего рода атомного «троянского коня» в виде огромного полого бетонного куба.
Затолкать туда людей и двинуть этот куб на реактор, а уж, подобравшись близко,
забросить этот самый реактор чем-нибудь...
Кто-то дельно спросил:
— А как же эту железобетонную махину, то бить «троянского коня», двигать?
Колеса нужны и мотор-Идея сразу была отвергнута.
Высказал мысль и сам Щербина. Он предложил нагнать в подводящий канал, что
рядом с блоком, водомерные пожарные катера и оттуда залить водой горящий
реактор. Но кто-то из физиков объяснил, что ядерный огонь водой не загасишь,
активность еще больше попрет. Вода будет испаряться, и пар с топливом накроет
все кругом. Идея катеров отпала.
Наконец кто-то вспомнил, что огонь, в том числе и ядерный, безвредно гасить
песком...
И тут стало ясно, что без авиации не обойтись. Срочно запросили из Киева
вертолетчиков.
Заместитель командующего ВВС Киевского военного округа генерал-майор Николай
Тимофеевич Антошкин был уже в пути по дороге в Чернобыль.
Приказ из округа получил вечером 26 апреля: «Срочно убыть в город Припять.
Аварийный атомный блок решили засыпать песком. Высота реактора тридцать метров.
Видимо, кроме вертолетов на это дело никакая другая техника не годится... В
Припяти действуйте по обстановке... Держите с нами связь постоянно...»
Военные вертолетчики дислоцировались далеко от Припяти и Чернобыля. Надо
перебрасывать ближе...
Пока генерал Н. Т. Антошкин был в пути, Правительственная комиссия решала
вопрос об эвакуации. Особенно настаивали на эвакуации представители Гражданской
обороны и медики из Минздрава СССР.
— Эвакуация необходима немедленно! — горячо доказывал заместитель министра
здравоохранения Е. И. Воробьев. — В воздухе плутоний, цезий, стронций...
Состояние пострадавших в медсанчасти говорит об очень высоких радиационных
полях. Щитовидки людей, детей в том числе, нашпигованы радиоактивным йодом.
Профилактику йодистым калием никто не делает... Поразительно!..
Щербина прервал его:
— Эвакуируем город утром 27 апреля. Всю тысячу сто автобусов подтянуть ночью
на шоссе между Чернобылем и Припятью. Вас, генерал Бердов, прошу выставить посты
к каждому дому. Никого не выпускать на улицу. Гражданской обороне утром объявить
по радио необходимые сведения населению. А также уточненное время эвакуации.
Разнести по квартирам таблетки йодистого калия. Привлеките для этой цели
комсомольцев... А сейчас мы с Шашариным и Легасовым полетим к реактору. Ночью
виднее...
Щербина, Шашарин и Легасов на вертолете гражданской обороны поднялись в
ночное радиоактивное небо Припяти и зависли над аварийным блоком. Щербина в
бинокль рассматривал раскаленный до ярко-желтого цвета реактор, на фоне которого
хорошо были видны темноватый дым и языки пламени. А в расщелинах справа и слева,
в недрах разрушенной активной зоны просвечивала мерцающая звездная голубизна.
Казалось, будто кто-то всемогущий накачивал огромные невидимые меха, раздувая
этот гигантский, 20-метрового диаметра, ядерный горн. Щербина с уважением
смотрел на это огненное атомное чудище, несомненно обладавшее большей, чем он,
зампред Совмина СССР, властью. Настолько больше, что перечеркнуло уже судьбы
многих больших начальников и его, Щербину, способно освободить от должности.
Серьезный противник, ничего не скажешь...
— Ишь, как разгорелся! — будто про себя говорил Щербина. — И сколько же в
этот кратер, — букву «е» в слове «кратер» он произносил очень мягко, — надо
песку кинуть?
— Полностью собранный и загруженный топливом реактор весит десять тысяч тонн,
— ответил Шашарин. — Если выбросило половину графита и топлива — это где-то
около тысячи тонн, образовалась яма глубиной до четырех метров и в диаметре
метров двадцать. У песка больший удельный вес, чем у графита... Думаю,
три-четыре тысячи тонн песка надо будет бросить...
— Вертолетчикам придется поработать, — сказал Щербина. — Какая активность на
высоте двести пятьдесят метров?
— Триста рентген в час... Но когда в реактор полетит груз, поднимется ядерная
пыль и активность на этой высоте резко возрастет. А «бомбить» придется с меньшей
высоты...
Вертолет сошел с кратера.
Щербина был сравнительно спокоен. Но это спокойствие объяснялось не только
выдержкой зампреда, но в значительной степени его недостаточной осведомленностью
в атомных вопросах, а также неопределенностью ситуации. Уже через несколько
часов, когда будут приняты первые решения, он станет кричать на подчиненных во
всю силу легких, торопить, обвиняя в медлительности и во всех смертных грехах...